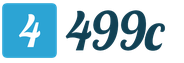Церковь и Толстой: история отношений. Духовная проблематика творчества А. К. Толстого Алексей толстой религиозное творчество
Вот известный фрагмент из мемуаров двоюродной сестры Алексея Константиновича:
« – Алеша, ты веруешь в Бога?
Он хотел было, по обыкновению, ответить шуткой, но, вероятно, заметив серьезное выражение на моем лице, передумал и как-то конфузливо ответил:
– Слабо, Луиза!
Я не вытерпела.
– Как? Ты не веруешь? – воскликнула я.
– Я знаю, что Бог есть, – сказал он, – думаю, что в этом я не сомневаюсь, но…» .
Нередко этот момент используют для доказательства того, что Алексей Константинович не являлся верующим православным человеком, был равнодушен к религиозным вопросам, и подкрепляют такое мнение указаниями на его увлеченность спиритизмом, не одобряемым церковью. В диалоге Толстого с кузиной можно расслышать и нехорошую уклончивость, как в разговоре Фауста с доверчивой, но требовательной возлюбленной:
Маргарита
<…>
Ты в Бога веришь ли?
Фауст
О милая, не трогай
Таких вопросов. Кто из нас дерзнет
Ответить не смутясь: «Я верю в Бога»?
А отповедь схоласта и попа
На этот счет так искренне глупа,
Что кажется насмешкою убогой.
Маргарита
Так ты не веришь, значит?
Фауст
Не коверкай
Речей моих, о свет моих очей!
Кто на поверку,
Разум чей
Сказать осмелится: «Я верю»?
Чье существо
Высокомерно скажет: «Я не верю»?
В него,
Создателя всего.
Опоры
Всего: меня, тебя, простора
И самого себя? (И.В. Гете. Фауст. Часть 1. Гл. 16)
Но если всерьез прислушаться к тому, что и как говорит Алексей Константинович, то можно почувствовать скромность истинного христианина, не желающего впасть в грех гордыни. Кто осмелится заявить о силе и глубине своей религиозности, если «горчичное зерно» веры должно двигать горами, если даже апостол Петр в Евангелии назван маловерным (ср. Мф. 14, 31)?
В одном из писем к С.А. Толстой (от 11.05.1873) писатель прямо высказывается о своей вере, как обычно, в личном общении с близкими людьми переплетая серьезную тему и шутливую интонацию: «К семи часам утра астма стала проходить, и я от счастья начал плясать по комнате, и мне пришло в голову, что Господь Бог должен ощущать удовольствие, избавляя меня от астмы, раз я Его так живописно благодарю. В сущности, я уверен, что Он никогда бы ее не послал, если бы это от Него зависело; но это должно быть последствием необходимого порядка вещей, в котором первый «Urheber» – это я сам, и может быть, чтобы избавить меня от астмы, пришлось бы заставить страдать людей менее грешных, чем я. Итак, раз вещь существует, она должна существовать , и никогда ничто не заставит меня роптать на Бога, в Которого я верую всецело и бесконечно » .
Религиозная направленность творчества А.К. Толстого наиболее «чисто» проявилась в двух поэмах, занимающих особое место в русской литературе XIX столетия и составляющих своеобразный «естественный цикл»: «Грешница» (1857) и «Иоанн Дамаскин» (1858).
«Грешница»

Поэма «Грешница», опубликованная в журнале «Русская беседа», приобрела огромную популярность среди читателей-современников, распространялась в том числе в списках, декламировалась на литературных вечерах (этот факт получил ироничное освещение в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»). На первый взгляд, само обращение к евангельской истории кажется нехарактерным для современной Толстому отечественной словесности и может быть истолковано как сознательный уход от «злобы дня» в область не столько прошлого, сколько Вечного. Так в основном и было принято это произведение большинством критиков. Однако любопытно, что в середине XIX века русские поэты неоднократно использовали именно этот сюжет: встреча Христа с грешницей.
Вот текст первоисточника – Евангелия от Иоанна:
…утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Ин. 8, 2–11).
Наиболее популярное «прочтение» этого эпизода в середине XIX столетия было связано с социальной проблематикой: знаменитая фраза Христа о камне истолковывалась как обличение фарисейского лицемерия. Такой «внешний» аспект евангельской истории оказался весьма востребованным, поскольку как будто давал обоснование для теории «среды» («среда заела»), получившей широкое распространение в радикально-демократической печати с конца 1850-х гг. Согласно этой теории, нет преступников, есть несчастные жертвы неблагополучной жизни, несправедливого социального устройства, которое необходимо изменить. Получалось, что лицемерное общество, осуждающее (и наказывающее) откровенного грешника, само гораздо греховнее его и потому не имеет права судить. Здесь не менее удобными оказывались и слова «Не судите, да не судимы будете», понятые слишком прямолинейно. То есть Христос в такой интерпретации оказывался одним из первых социалистов, своеобразным «предтечей» радикалов XIX века. См. эпизод из воспоминаний Достоевского о Белинском в «Дневнике писателя» за 1873 год:
«Белинский говорил:
– Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
– Ну, не-е-ет! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал по комнате взад и вперед). – Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его...
– Ну-да, ну-да, – вдруг с удивительною поспешностью согласился Белинский, – он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними» . Этот эпизод, судя по всему, лег в основу известного разговора Коли Красоткина с Алешей Карамазовым в последнем романе писателя: «И, если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно» .
Похожий взгляд на Христа нашел отражение и в поэзии современников А.К. Толстого – Д.Д. Минаева и В.П. Буренина, которые (первый – в 1864, второй – в 1868 гг.) перевели на русский язык поэму Альфреда де Виньи «Блудница» («Грешница»).
Алексей Константинович Толстой, предлагая свое художественное осмысление евангельского эпизода в поэме «Грешница», радикально исключает социальный аспект: его Христос не говорит знаменитых слов о камне и не обличает лицемерных судей. На эту особенность, как на принципиальную, обратил внимание О. Миллер в своей обширной статье «Граф А.К. Толстой как лирический поэт»: «…поэт наш совершенно проникся в ней [в поэме] чисто религиозной идеей личного обращения к Богу живой души. Нимало не затронута им социальная сторона вопроса, а ее нетрудно было бы коснуться, если бы он прямо держался прекрасной Евангельской повести с многосодержательными словами Спасителя: «Кто из вас без греха, пусть тот первый бросит в нее камень». Уже и на основании этих слов, которыми вовсе не воспользовался наш поэт, можно было бы выставить грех этой женщины – грехом всего общества, естественным следствием установившихся в нем порядков – а такая постановка дела придала бы рассказу старины отдаленной живой интерес современности, прямо бы связала его со «злобою дня» .
Толстой не воспользовался поводом придать евангельской истории «живой интерес современности»
В этом упреке содержится и возможное объяснение – почему Толстой не воспользовался поводом придать евангельской истории «живой интерес современности». Именно потому и не воспользовался: не хотел, чтобы вечный сюжет был прочитан «на злобу дня» и тем самым потерял свое духовное «измерение». Слова Христа о камне могут быть использованы в далеких от христианства целях: внешне пересекаясь с современными Толстому социальными теориями о «среде», о преступлении как «протесте», эти слова, конечно же, о другом – о необходимости заглянуть в собственную душу, прежде чем судить чужие грехи. О необходимости увидеть бревно в собственном глазу, прежде чем указывать на сучок в чужом. А «злоба дня» превращает эту вечную истину в «партийную» правду: законники не имеют права судить преступника, потому что сами хуже его, ведь общество устроено так несправедливо, что виноват не тот, кто греховнее, а тот, кто слабее, кто стоит ниже в общественной иерархии. И эту несправедливость нужно исправлять.
Вполне вероятно, Толстой чувствовал опасность профанации, прагматичного истолкования фразы Христа, и потому счел нужным обойтись без нее. Тем более что мысль о внутреннем преображении человека при встрече со Христом (а это произошло и с Грешницей, и с фарисеями) показана им в поэме последовательно и убедительно с художественной точки зрения. Причем поэт даже подчеркнул, что грешница вообще не подвергается осуждению со стороны окружающих, она – законная часть этого мира, который пришел спасти Христос. Она, если угодно, символ этого мира, персонификация плотского удовольствия как жизненной ценности.
Сам по себе образ блудницы, падшей женщины в современной Толстому поэзии нередко становился поводом для заострения социальной проблематики, призыва к милосердию и состраданию по отношению к «отверженным» вообще. И евангельская аналогия в таких случаях отходила на второй план, использовалась лишь для контраста с современным жестокосердным миром. Или становилась уроком-упреком. То, что сделал Христос с душой грешницы, нередко мыслилось универсальным средством избавления от общественных пороков – через отказ от осуждения во имя «любви и прощения». Правда, Христос, как мы помним, говорит ей в Евангелии: «Иди и впредь не греши», то есть называет грех – грехом и тем самым произносит свой суд над блудницей. В противном случае человек вообще превратится в «невиновную», «падшую» «жертву», заслуживающую только сострадания, в силу отсутствия свободы воли и возможности выбора. А это уже антихристианство.
Конечно, вряд ли можно сомневаться в глубоко религиозном по природе чувстве, которое одушевляло великих русских писателей, обращавшихся в своем творчестве к образу падшего человека, в каком бы облике он ни являлся – вора, убийцы, блудницы, пьяницы и т.д. Горячий монолог Обломова из одноименного романа Гончарова точно отражает эту общую «страстную» потребность русской литературы найти в человеке человека: «Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать!.. Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой…» . Только, как мы увидели, сострадание может оказаться соблазнительным прикрытием для социальных теорий, антихристианских по своей природе, сознательно смешивающих грех и грешника, чтобы под маской сочувствия человеку незаметно научить толерантности ко злу. Может быть, самый радикальный вариант такого отрицания вины «падшей женщины» – роман Л.Н. Толстого «Воскресение» (1899).
Для Алексея Константиновича Толстого в поэме «Грешница» оказывается более важным иной аспект рассмотрения темы. Если многие поэты актуальность евангельского сюжета открывают через заострение его социального смысла, то Толстой стремится подчеркнуть его вневременную значимость – религиозная идея не нуждается в «современном» маскараде, чтобы достучаться до сердца читателя. Наоборот, он словно освобождает историю о Христе и грешнице от слишком конкретных атрибутов исторического времени, что придает поэме черты художественно развернутой притчи.
Нигде в «Грешнице» героиня не названа по имени, эта история о человеке вообще, ибо «кто из вас без греха»? К тому же в этой поэме словно «проверяется на прочность» одна из важнейших ценностей для творческого сознания писателя – Красота. В описании служительницы «продажной любви», после перечисления внешних атрибутов «грешной жизни», поставлен многозначительный союз НО:
Ее причудливый наряд
Невольно привлекает взоры,
Ее нескромные уборы
О грешной жизни говорят;
Но дева падшая прекрасна;
Взирая на нее, навряд
Пред силой прелести опасной
Мужи и старцы устоят:
<…>
И, тень бросая на ланиты,
Во всем обилии красы,
Жемчужной нитью перевиты,
Падут роскошные власы…
Здесь возникает несколько «соблазнительных» вопросов: является ли прекрасное синонимом падшего? Или его следствием? Подчеркивается ли этим телесная природа красоты? Или ее независимость от нравственных категорий? А может быть, союз «но» противопоставляет эти понятия, указывает на их оксюморонную, противоестественную совмещенность в одном человеке? Слово «прелесть» употреблено здесь в значении «мирском», «пушкинском» – или религиозном?
Первое уточнение возникает в монологе Грешницы, обращенном к Иоанну, которого она по ошибке приняла за Самого Христа:
Я верю только красоте,
Служу вину и поцелуям,
Мой дух тобою не волнуем,
Твоей смеюсь я чистоте! (1, 62)
Многозначительная рифма создает прямую оппозицию: красота – чистота. Получается, что невозможно быть чистым и красивым одновременно, ибо не служат двум богам, необходим выбор. И «прекрасной деве» кажется, что она этот выбор сделала верно. Только почему-то весь хвастливый монолог Грешницы назван «немощными обидами». Может быть, гордыня, пробудившаяся в ней при рассказах о чудесном учителе, скрывает нечто иное? Внутреннюю неуверенность в собственном выборе? Ощущение непрочности, временности своей «красоты»? Боязнь заглянуть в собственную душу?
Однако появляется Христос, и эпитет «прекрасный» переходит к нему:
Ложась вкруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада… (1, 63)
Любопытно то, что «прекрасные уста» Спасителя в поэме Толстого не произнесут ни слова. В этом сказался не только художественный, но и духовный такт поэта: Христос все уже сказал в Евангелии. Перевод его слов на современный поэтический язык чреват профанацией (кстати, это может быть еще одним объяснением – почему Толстой не вспоминает фразу о камне). Даже его появление среди людей сравнивается с «дуновением тишины»: крикливый говор замолкает, мир словно прислушивается к тихим шагам Сына Человеческого. Поэтому чудесное преображение Грешницы совершается благодаря Его «печальному взору» – и в молчании.
И был тот взор как луч денницы,
И все открылося ему,
И в сердце сумрачном блудницы
Он разогнал ночную тьму… (1, 64)
Этот взор несет озарение: грешница начинает осознавать собственную тьму, ибо увидела свет и отделила тьму от света.
Это сродни сотворению мира – чудо духовного рождения человека, таинство, невозможное без покаяния. «К такому покаянию – к воскресению из смерти душевной – призывает апостол Павел: «Встань, спящий… и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14) . История обращенной блудницы предстает неким аналогом истории воскресшего Лазаря; как говорит св. Макарий Великий, «гроб – сердце, там погребены и содержатся в непроницаемой тьме твой ум и твои помышления. Господь приходит к душам, во аде вопиющим к нему, то есть в глубину сердца, и там повелевает смерти отпустить заключенные души… Потом, отвалив тяжелый камень, лежащий на душе, отверзает гроб, воскресает точно умерщвленную душу, и выводит ее, заключенную в темнице, на свет» .
И вот теперь, после внутреннего озарения героини, становится очевидным ответ на вопрос о сущности Красоты – это был тот самый дар, которым дева неправильно распорядилась:
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил… (1, 64‒65)
В строгом смысле, любой Божий дар не подарок в бытовом значении слова, поскольку подарок не предполагает ответственности за него. А в евангельском контексте дар – тот самый талант, который не следует зарывать в землю или бездумно растрачивать, как это сделала Грешница со своей красотой, заставив ее служить распутству, нечистоте, злу. И в конечном итоге сама извратила начальную природу этого дара, надругалась над ним, то есть над собой.
И пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа (1, 65).
Слезы в данном случае и есть самое чистое проявление души, еще не обретшей новых слов, но уже освобожденной от старых. А глагол «пала» парадоксально, на первый взгляд, соотнесен с эпитетом «падшая», который характеризовал героиню до встречи с Христом. Однокоренные слова становятся здесь антонимами, ибо падение ниц перед святыней Христа и означает преодоление нравственного, духовного падения. То есть в переносном смысле Грешница «встала», «поднялась», а печальный и сострадательный взор Спасителя несет в себе важнейший христианский призыв, обращенный к душе грешного человека: Талифа куми (Мк. 5, 41), «встань и иди» (неслучайно только эти слова произносит молчаливый Спаситель в легенде о великом инквизиторе в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»).
Безусловно, перед нами чудо, но вряд ли оно напрочь исключает психологическую мотивированность перерождения героини. Будущее превращение как будто подготовлено «немощными обидами», которые облечены в хвастливую форму дерзкого обращения блудницы к Иоанну. Судя по всему, рождено это хвастовство (даже своеобразное пари, которое грешница заключает с окружающими) именно внутренним сомнением в правоте избранного пути. К тому же, рассказывая о встрече со Христом и воздействии этой встречи на грешника, уместнее все-таки говорить не об эволюции, а о революции, которая происходит в душе человека.
В творчестве Толстого есть и иные ситуации, которые можно назвать «благодатным потрясением» грешника при встрече с Христовой истиной. Так в «Песне о походе Владимира на Корсунь» чудесно меняется язычник после Крещения:
Владимир с княжого седалища встал,
Прервалось весельщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал –
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:
Как сон, вся минувшая жизнь пронеслась,
Почуялась правда Господня,
И брызнули слезы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня (1, 652–653).
Так перерождает любовь лирического героя некоторых стихотворений Толстого, например, «Меня, во мраке и в пыли…», «Не ветер, вея с высоты…», освобождая его душу от житейского «сора» и открывая главное.
Финал поэмы вызывает сразу несколько литературных ассоциаций.
Во-первых, именно так будет описано воскресение каторжника Родиона Раскольникова в эпилоге романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени» . В этом смысле поэма Толстого, как и многие произведения отечественной литературы, реализует общенациональный пасхальный архетип: показывая ужас и мрак падения, душевной смерти – выводит человека к свету и воскресению.
Во-вторых, почти так же завершается стихотворение А.С. Пушкина «Красавица»:
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты .
Святыня Христа – это и есть святыня подлинной красоты
Последняя аналогия, смеем предположить, указывает на вполне осознанную (полемическую по сути своей) реминисценцию в поэме А.К. Толстого и ставит точку в развитии мотива красоты в «Грешнице»: святыня Христа – это и есть святыня подлинной красоты. Той самой, которая «спасет мир». Иные святыни – ложные кумиры. Здесь, вероятно, и содержится объяснение, на первый взгляд, странному по своей грамматической двусмысленности словосочетанию «святыня Христа» – в строгом смысле невозможному именно в евангельском контексте. С одной стороны, святым для героини становится то, что свято для Христа, тем самым она отказывается от прежней иерархии ценностей, принимая всей душой новую. С другой стороны, сам Христос для героини становится святыней, объектом благоговейного поклонения – как бы Церковью еще до Церкви.
Таким образом, поэма «Грешница» создается А.К. Толстым для художественного решения сразу нескольких важнейших вопросов: о природе и сущности красоты, об иерархии телесного и духовного, о смысле Пришествия Христа, наконец, о соотношении вечного и актуального: любой человек, вне зависимости от эпохи, может быть (и должен стать) грешницей, преображенной встречей со Спасителем.
«Иоанн Дамаскин»

Одно из лучших поэтических творений А.К. Толстого, «Иоанн Дамаскин», не имело у современников того успеха, который выпал на долю «Грешницы». Поэма эта большинством современников (самый яркий пример – Н.С. Лесков, считавший, что в главном герое Толстой «изобразил самого себя») была истолкована с «автобиографической» точки зрения. Определенный резон в этом есть: поэма начинается с описания внешне благополучной жизни Иоанна при дворе калифа, но «богатство, честь, покой и ласка» не удовлетворяют духовных запросов героя, скорее, наоборот, становятся темницей для его духа и его дара. Поэтому так страстно звучит мольба «успешного придворного»: «О, отпусти меня, калиф, / Дозволь дышать и петь на воле!»
Здесь поэтически выразилось глубоко личное затаенное недовольство самого А.К. Толстого собственной жизнью, о чем он напрямую решался признаваться только в письмах к возлюбленной: «Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником…» (С.А. Миллер от 14.10.1851) . «Я живу не в своей среде, не следую своему призванию, не делаю то, что хочу, во мне – полный разлад…» (С.А. Миллер, 1851. (55)). «Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: служба, чин, вицмундир, начальство и тому подобное? Как быть поэтом, когда совсем уверен, что вас никогда не напечатают и вследствие того никто вас никогда не будет знать? Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником; что мне остается сделать, если не заснуть?..» (С.А. Миллер от 31.07.1853. (63)).
Здесь мы прикасаемся к еще одной проблеме Алексея Константиновича, которую можно назвать семейной: мать и ее братья настойчиво «двигают» любимого отпрыска по карьерной лестнице, начиная от воскресных игр с наследником престола и заканчивая высокими придворными должностями (флигель-адъютант, церемониймейстер), последняя из которых – егермейстер двора – по табели о рангах соответствует тайному советнику, то есть является «генеральской». Как тут не вспомнить шутливое обращение Толстого к античному покровителю Муз: «Не дай мне, Феб, быть генералом, / Не дай безвинно поглупеть!» («Исполнен вечным идеалом…»). Просьбу, с которой герой поэмы Толстого обращается к калифу, в реальности автору удалось произнести только через два года после написания произведения; так что начало «Иоанна Дамаскина» в какой-то мере можно считать и «сублимацией» конкретного намерения поэта, и своеобразной репетицией последующей просьбы об отставке: «Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого Провидением, – мое литературное дарование , и всякий иной путь для меня невозможен… <…> Я думал… что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы , одно вредит другому, и надо делать выбор. <…> Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определившимся путем и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях» (Александру II, август или сентябрь 1861. (139–140)).
Итак, определенные основания для «личностно-биографического» истолкования проблематики поэмы «Иоанн Дамаскин» очевидны. Однако с одной существенной поправкой: речь идет исключительно о начале поэмы, о первой ее главе, то есть о вступлении. Противоречие между назначением героя и его официальной ролью при дворе калифа, разрешение этого противоречия – лишь условие для последующего движения Дамаскина по своему пути, которому и посвящена поэма. Калиф, как мы помним, мольбе певца внял без обид и условий, поэтому никакого внутреннего конфликта из своего богатого дворца Иоанн не уносит:
«В твоей груди
Не властен я сдержать желанье:
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!» (1, 31)
Определение собственного призвания, внутреннее недовольство собой и жизнью, противоречащей призванию, – все это является неким «предтекстом» поэмы Толстого, в лирике которого нередко ставится проблема выбора пути (см., например: «Лишь только один я останусь с собою…», «Я вас узнал, святые убежденья…», «Темнота и туман застилают мне путь…»), но Иоанн показан человеком, свой путь уже осознавшим к началу действия произведения.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить.
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле… (1, 29)
Только осознание – это еще не движение. И совершенный выбор не означает, что в дальнейшем герою не придется сталкиваться с проблемой выбора вновь и вновь. Стоит указать и на то, что из жития святого Иоанна Толстой для своего поэтического осмысления НЕ выбирает самый знаменитый эпизод – чудесного возвращения отрубленной по несправедливому приговору десницы святого. Возможно, здесь, как и в аналогичном случае с «Грешницей», где поэт сознательно не воспользовался известными словами Христа о камне, действует мотив «против течения»: Толстому неинтересны торные дороги, хотя это объяснение слишком универсальное, чтобы внести ясность в конкретном случае. Предположим, что художественная задача автора не требует обращения к исцелению Иоанна по вмешательству Пресвятой Богородицы, поскольку композиция поэмы предполагает лишь один кульминационный эпизод. И связан он с важнейшим, по мнению Толстого, испытанием, которое ожидает Дамаскина уже после освобождения от придворной жизни.
Путь героя – путь ко Христу и одновременно к самому себе
Знаменитый монолог-молитва Дамаскина «Благословляю вас, леса» – гармоничен и светел; важнейшее противоречие между жизнью и назначением снято, выбор предмета для духовного воспевания совершен изначально: «Греми лишь именем Христа, / Мое восторженное слово». Путь героя – путь ко Христу и одновременно к самому себе. Однако легким такой путь быть не может. Самый трудный выбор предстоит Иоанну не в царских чертогах, не в столичной суете Дамаска, а в благословенной обители святого Саввы, где и прозвучит безжалостный приговор духовного наставника:
Но должен ты отныне отложить
Ненужных дум бесплодное броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить.
Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попрать,
И на уста, смирив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать;
Исполни дух молитвой и печалью –
Вот мой устав тебе в новоначалье!» (1, 37–38).
Любопытно, что в первоисточнике произведения Толстого – житии (в изложении св. Димитрия Ростовского, которое было включено в Четьи-Минеи) Иоанн с радостным смирением принимает обет молчания. Герой же поэмы буквально раздавлен «каменным» приговором. Он был готов ко всему, кроме этого:
Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву Ты, Господь, его избрал! (1, 38–39).
Возможно, здесь проявился фольклорный архетип легкомысленного обещания, реализованный во многих сказочных сюжетах, когда герой соглашается на условие, не догадываясь, что придется отдать самое дорогое, что у него есть (например, родное дитя). Иоанн у Толстого явно не предполагал принести именно такую жертву. Но суровая логика в решении черноризца есть: самоотречение, необходимое для приближения к Богу, и означает отказ от самого себя. Бремя ветхого человека нужно сбросить, чтобы воскреснуть душою. Правда, эта логика предполагает, что поэтический дар Дамаскина – именно прелесть, то есть грех или слабость, с которыми нужно бороться. И чем дороже эта слабость для Иоанна, тем суровее и последовательнее должна быть борьба.
Однако не происходит ли здесь страшной подмены – вместо отречения от греха не совершается ли отречение от души? Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее (Мф. 16, 25). Эти слова Христа словно бы подтверждают неумолимую правоту старца: душа, плененная прелестью песнопенья, то есть обуянная гордыней, то есть мертвая, должна быть «брошена в огонь», только так возможно воскресение (вспомним, на первый взгляд, похожий эпизод в «Грешнице», когда героиня осознает, насколько неправильно она распорядилась даром жизни и красоты, и отказывается от себя «ветхой», «прелестной», чтобы пасть в раскаянии «перед святынею Христа»).
В любом случае мотив смерти начинает звучать в поэме именно после обета молчания, который приносит Иоанн. Фактически выбора у него в данном случае и не было – послушание есть одно из ключевых условий того пути, который избран Дамаскиным изначально. Но никакого благодатного погружения в сердечное созерцание Бога, ни умной (непроизносимой) молитвы, ни радости освобождения от лжи «мысли изреченной» не обретает герой. Наоборот, он по-прежнему подавлен невозвратимой потерей, и его внутренняя переполненность образами и «непетыми псалмами» требует и не находит выхода, сжигая его изнутри. Заградив уста печатью молчания, герой не в силах «заградить» тот хаос, из которого продолжают взывать к нему «созвучия» и «недремлющие думы». Внутренний конфликт Дамаскина подчеркнут еще и тем, что «уставные слова» и «заученные молитвы», которые он твердит в надежде обрести покой как согласие с самим собой, не действуют, лишены своей целительной силы – именно потому, что «уставные и заученные».
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью;
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар.
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом,
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.
Но тщетно я, в бесплодной битве,
Твержу уставные слова
И заученные молитвы –
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно. (1, 41–42)
Многозначительная параллель: сердце не принимает «условие» монашеской жизни так же, как не принимало «величье, пышность, власть и силу» дворцовой жизни у калифа. Неужели ничего по сути не изменилось, и душа героя, вместо освобождения, обрела лишь новую тюрьму? Вряд ли, конечно, сам Дамаскин так думает, здесь важнее его непосредственное эмоциональное переживание, душевная боль, которой еще предстоит перерасти в духовное обретение. Но в любом случае сущность конфликта – между «внешним» и «внутренним» человеком, между послушанием (молчанием) – и «непокорным» сердцем (словом). Исход этого конфликта предрешен многозначительной строкой: «Душа берет свои права!». То есть, налагая жестокий обет на Иоанна, старец нарушил «права» его души? Смеем предположить, что категория «права», столь любимая Толстым в смысле общественно-политическом, здесь приобретает новый смысловой оттенок. Речь не идет о противоречии между правом и обязанностью. Бунтующая душа героя – права. Это уже понятно читателю, а вскоре станет очевидно и для действующих лиц поэмы.
Вот здесь, в этот момент трагического разлада со своей душой, Дамаскин оказывается перед действительным и очень непростым выбором: нарушить запрет старца или отказать в просьбе брату, удрученному потерей близкого.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне.
Tяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы –
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!» (1, 43)
Сострадание побеждает, выпуская на свободу слово, томившееся в душе Дамаскина
Не важнейшая ли христианская добродетель – милосердная помощь ближнему, ради которого можно забыть и себя, и свой обет (то есть пострадать самому, чтобы облегчить его страдания)? Но ведь в этой ситуации проверяется нечто большее: способность Иоанна жить без дара слова. А может быть, проверяется и сам обет молчания, его духовный смысл? Сострадание побеждает, выпуская на свободу слово, томившееся в душе Дамаскина. И не случайно это слово о смерти – словно подведен какой-то эмоциональный и философский итог данной теме: тлен и запустение богатых чертогов Иоанна, мертвенный пейзаж пустыни, смерть души, смерть брата… Знаменитый тропарь Дамаскина в поэме Толстого – художественно достоверное переложение стихир святого о бренности земного бытия.
Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно,
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, –
Какая слава на земли
Стоит, тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья –
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья! (1, 46)
Содержательно этот тропарь задает некую самостоятельную «вертикаль» для осмысления проблемы выбора в поэме: между земным и небесным, между тленным и вечным, между суетным и важным. Остается понять, к каким сторонам антитезы принадлежат слово и молчание. Если слово – лишь суетное самовыражение грешного земного человека, его душевных порывов и чувственных страстей, то естественно, запрет на слово должен приближать героя к вечности. Но тогда получается, что торжественное песнопение о жизни и смерти греховно изначально и словно отрицает самое себя. В этой ситуации встает вопрос, требующий незамедлительного ответа: какова природа дара слова? Для старца, уличившего Иоанна в нарушении обета, ответ очевиден – словами говорит душа, дух говорит молчанием. По монастырскому уставу за непослушание полагается суровая епитимия, и Дамаскин ее безропотно и даже радостно принимает, как будто признавая правоту своего духовного отца. В любом случае наказание снимает с его души тяжелый камень, который, если так можно выразиться, образовался постепенно – с момента запрета и до его нарушения.
И старца речь дошла до Дамаскина;
Епитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вины;
Спешит почтить неслыханный устав;
Сменила радость горькую кручину.
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит Бога ради. (1, 52)
Можно сказать, что он не мог не провиниться, как и герой рассказа Н.С. Лескова «Человек на часах» (1887). Не мог Постников не спасти человека. Но, наказанный за то, что покинул пост, он воспринимает это наказание как справедливое! Это и есть религиозное сознание. Да, жизнь устроена так, что иногда невозможно не согрешить. Но это не значит, что человек вправе сказать о себе: «я не виноват». Он только может надеяться, что его простят, отпустят ему вину – вольную или невольную. И радость наказанного – совершенно естественна, ведь внешнее наказание не только облегчает главную ношу – муки совести, но и воспринимается как обещание милости и искупления вины.
Дамаскин не ищет оправданий и не пытается сам себя простить. Богородица заступается за Иоанна и обнаруживает истинную природу его дара:
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной!
На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданьям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать? (1, 54)
Жизнь и грех – понятия не тождественные
Дар слова – Божественный по своему происхождению, и от самого человека зависит, станет ли он «прелестью песнопения» или будет прославлять Его Подателя. Дар слова Дамаскина служил Господу, и поэтому обет молчания есть насилие не просто над душой человека, а над духом, говорившим его устами. Иоанн не мог ослушаться старца, принимая обет. Но, оказавшись в ситуации выбора и нарушая волю духовного отца, он парадоксальным, на первый взгляд, образом исполняет тем самым волю Отца Небесного. Следовательно, духовный отец не являлся проводником этой воли. Черноризец понимает это благодаря явлению Богородицы, которое открывает ему глаза на важнейшую истину: жизнь и грех – понятия не тождественные. Здесь вообще проявляется общая особенность русской религиозной традиции – духовное служение не отрицает мира, а стремится просветить его, милосердно и смиренно принять его. В этом смысле антитеза Иоанна и черноризца впоследствии отзовется противопоставлением светлого старца Зосимы и мрачного отца Ферапонта в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского. А само явление Богородицы, после которого Иоанн получает законную возможность «глаголом вольным Бога славить», и может стать одним из объяснений – почему А.К. Толстой не обратился к эпизоду с отрубленной рукой святого, которая была чудесно исцелена Заступницей. Внутреннее созвучие двух событий жития Иоанна поэт уловил духовным слухом – и показал лишь одно из них. А благодаря скрытой аналогии показанное событие обретает дополнительный «объем», мерцает новыми смыслами. Несправедливое лишение руки и слова, смиренное принятие и страдание, наконец, исцеление – возвращение дара. Эта общая закономерность, духовная композиция человеческой жизни: от смерти к воскресению. То есть «несправедливость» того или иного испытания очень условна, лишь близорукий земной взгляд увидит здесь некое нарушение права – на жизнь и здоровье (Иоанн не совершал преступления, в котором его обвинили и за которое лишили десницы) или на свободу слова. Иначе тогда черноризец становится цензором, а вся поэма сводится к памфлету, как это увиделось А.Н. Майкову:
Вот Дамаскин Алексея Толстого – за автора больно!
Сколько погублено красок и черт вдохновенных задаром.
Свел житие он на что? На протест за «свободное слово»
Против цензуры, и вышел памфлет вместо чудной легенды.
Все оттого, что лица говорящего
он не видал пред собою… .
Промыслительность, высшая необходимость лишений героя очевидна в духовной перспективе: чтобы воскреснуть, нужно умереть. Причем здесь это не подчинено жесткой схеме «преступления-наказания-исправления», как сведения «бухгалтерских счетов» в книге человеческой судьбы. Грехопадения или преступления святой не совершал. Но ведь страдалец Христос был абсолютно невинен. А сам Дамаскин в начале поэмы сетует – почему он не является современником Спасителя и не может разделить Его бремя. Господь словно услышал эти сетования и исполнил мольбу Своего песнопевца. Воскресение нельзя заслужить, до него нужно дорасти… дострадать.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление –
К Божью cвету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом! (1, 52)
Поэма и завершается светлым пасхальным аккордом:
Раздайся ж, воскресная песня моя,
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою! (1, 56)
Примечательно, что последние слова в поэме – «Кого хвалить в своем глаголе / Не перестанут никогда / Ни каждая былинка в поле, / Ни в небе каждая звезда» – буквально отсылают нас к началу поэмы, к молитве Дамаскина «Благословляю вас, леса». Только теперь былинка и звезда – не «объект благословления» певца, а сами – источник хвалы Господу. Словно «глагол» отныне стал свойством не только человека, но и целого мира: «глухонемая вселенная» зазвучала, и это как-то связано с тем, что к Дамаскину вернулся его дар.
Безусловно, поэма Толстого – о выборе и пути, и больше того – о смысле бытия, о том, во имя чего человек приходит в земной мир. Но это путь человека Слова – в высоком значении Божьего дара. Причем этот дар у Дамаскина связан не только с прославлением Творца (и в этом отношении человек – часть общемирового «оркестра», тварного мира), но и с борьбой, противостоянием «тьме», молчанию, злу и смерти. Получается, что в этом и сказывается «особенность» человека, его «специфическое» назначение, выделяющее его из общей симфонии. Так или иначе, поэма Толстого задает важнейшие «координаты» художественного осмысления одной из вечных тем – темы слова, творчества, искусства и его назначения.
Противопоставление «светского», «мирского» и «церковного» понимания искусства Толстой считает ложным – или, во всяком случае, находит «общую точку», на которой они встречаются. Современный исследователь Ю.К. Герасимов приводит фрагмент из письма С.Т. Аксакова: «Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задает такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет», – а затем предлагает воспринять поэму Толстого как художественное опровержение аксаковской мысли (во всяком случае, как исключение из правила): «Толстой же высоким примером Иоанна Дамаскина, песнопевца и ревнителя веры, лирическими декларациями поэмы и самим фактом ее создания утверждал принципиальную совместимость, возможность слияния искусства и религии. Поэтам, верил он, дано ощутить и воспеть божественную гармонию мира» .
И здесь становится понятным, почему именно преподобный Дамаскин стал героем поэмы – не только как признанный автор канонических религиозных стихир, но и как «борец за честь икон, художества ограда». Имеются в виду его знаменитые «слова» против иконоборцев, раскрывающие сущность иконописания через соотношение зримого и незримого в Божественном образе.
«Ибо не природа плоти сделалась Божеством, но как Слово, оставшись тем, что Оно было, не испытав изменения, сделалось плотью, так и плоть сделалась Словом, не потерявши того, что она есть, лучше же сказать: будучи единою со Словом по ипостаси. Поэтому смело изображаю Бога невидимаго, не как невидимаго, но как сделавшегося ради нас видимым чрез участие и в плоти, и в крови. Не невидимое Божество изображаю, но посредством образа выражаю плоть Божию, которая была видима (1, IV).
Как будет изображено невидимое? Как будет уподоблено неуподобимое? Как будет начертано не имеющее количества и величины и неограниченное? Как будет наделено качествами не имеющее вида? Как будет нарисовано красками безтелесное? Итак, что таинственно показывается [в этих местах]? Ясно, что когда увидишь безтелеснаго ради тебя вочеловечившимся, тогда делай изображение человеческаго Его вида. Когда невидимый, облекшийся в плоть, становится видимым, тогда изображай подобие Явившагося. Когда Тот, Кто, будучи, вследствие превосходства Своей природы, лишен тела и формы, и количества, и качества, и величины, Кто во образе Божии сый, приим зрак раба , чрез это сделался ограниченным в количественном и качественном отношениях и облекся в телесный образ, тогда начертывай на досках и выставляй для созерцания Восхотевшаго явиться. Начертывай неизреченное. Его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преображение на Фаворе, страдания , освободившия нас от страстей , смерть, чудеса – признаки божественной Его природы, совершаемые божественною силою при посредстве деятельности плоти, спасительный крест, погребение, воскресение, восшествие на небеса; все рисуй и словом, и красками. Не бойся, не опасайся! (1, VII) <…>
Безтелесный и неимеющий формы Бог некогда не был изображаем никак. Теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеки поживе , я изображаю видимую сторону Бога. Не поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся веществом ради меня, соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества соделавшему мое спасение, и не перестану почитать вещество, чрез которое соделано мое спасение» (1, XVI) .
Таким образом, через сам выбор героя и упоминание о его защите икон, то есть благодаря исторической и религиозной аллюзии-аналогии, Толстой выходит на вполне злободневную тему, связанную с современными ему эстетическими (а точнее, антиэстетическими) тенденциями. Позднее это отразится в стихотворении «Против течения» (1867), где содержится указание на «дни Византии расслабленной», когда и торжествовали «икон истребители». Раньше, чем нигилизм получил свое наименование как явление 1860-х годов, на два года раньше выхода в свет тургеневского романа «Отцы и дети», практически одновременно со статьями Писарева и его радикальных единомышленников, в обновленном Г.Е. Благосветловым журнале «Русское слово» поэт указывает на серьезную опасность, с которой вот-вот столкнется не только литература, но и общество в целом. В.С. Соловьев подчеркнул верность этой скрытой аналогии в поэме Толстого, говоря об иконоборцах и об их отрицании возможности изобразить «бестелесное»: «Здесь несомненно отрицался, хотя и бессознательно, самый принцип Красоты и истинное знание художества. На той же точке зрения стоят те, которые считают все эстетическое областью вымысла и праздной забавы… Толстой не ошибся: то, за что он боролся против господствовавшего в его время течения, было в сущности то самое, за что Иоанн Дамаскин и его сторонники стояли против иконоборчества» .
Правда, и предельно аскетичный старец (с иконоборчеством вроде бы не связанный) также может быть соотнесен с «нигилистами»-прагматиками-утилитаристами, отрицающими «бесполезную прелесть» песнопения. Действительно, получается, что «сблизив… всех гонителей искусства и красоты и противопоставив им свой идеал поэта-христианина, автор совместил обретенное внутреннее единство замысла поэмы с цельностью духовного облика героя на всех его поприщах» .
Безусловно, при целостном анализе религиозных поэм А.К. Толстого необходимо их рассматривать и в тесной взаимосвязи друг с другом, как составляющие определенного цикла, своеобразной «пасхальной дилогии», хотя и никак напрямую не обозначенной самим автором. Фактически эти поэмы продолжают одна другую – как на уровне «хронологическом» ( – Священное Предание), неслучайно Иоанн может лишь мечтать о том, чтобы оказаться современником Христа, так и на уровне метафизическом: если история Грешницы связана с преображением души благодаря встрече со Спасителем, то история Дамаскина – путь преображенной души через земные испытания и искушения. Если провести отдаленную аналогию с романами Достоевского, то павшая ниц блудница соотносится с прозрением каторжника Раскольникова, финалом «Преступления и наказания», где показано как бы рождение нового человека; а «новая история» этого «нового человека» описана в романе «Идиот», где безгрешный герой постоянно оказывается перед относительностью земного выбора. Тема Красоты в ее связи с Божественной истиной также важна для понимания духовной проблематики каждой из поэм: искусственность, ложность, губительность противопоставления прекрасного и святого преодолеваются к финалу произведений. Наконец, обе поэмы связаны общей пасхальной идеей воскресения души и образом Христа, наяву предстающим в первой поэме и возникающим перед вдохновенным взором песнопевца во славу Божию – во второй.
Образ Христа в творчестве А.К. Толстого возникает еще раз примерно в то же время, только в лирике: в стихотворении «Мадонна Рафаэля» (до мая 1858):
Склоняясь к юному Христу,
Его Мария осенила,
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту.
А Он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед – и ясным оком
Голгофу видит пред собой. (1, 709–710)
Незадолго до публикации стихотворения в том же журнале «Русский вестник» опубликован очерк А.В. Никитенко (кстати сказать, цензора первого напечатанного произведения А.К. Толстого – повести «Упырь», 1841) «Рафаэлева Сикстинская Мадонна»: «Не оттого ли так задумчиво лицо Младенца, что он смутно провидит свою многотрудную земную будущность, и как существо, только что ставшее человеком, ощущает как бы инстинктивно первый трепет скорбного человеческого существования?» Рискнем предположить, что замечание о задумчивости и провидческом даре Младенца Христа в начале Своего скорбного земного пути могло повлиять на журнальную редакцию стихотворения Толстого, хотя и посвященного другой картине того же художника.
Стихотворение А.К. Толстого в журнальной публикации имело другое заглавие – La Madonna della Seggiola – и несколько иное начало второй строфы: «А Он, в мышлении глубоком, / Уже готовясь с жизнью в бой, / Взирает вдаль…» (1, 982). Мышление, ставшее прозрением, указывает на важное смещение акцента – с разумного, «философского» познания мира – к таинственно-духовному постижению, сокровенному знанию – в том числе и своей трагической миссии в этом мире. Перед нами не мудрец, не мыслитель, а Сын Божий. Он с рождения начинает Свой путь, к которому предназначен, у него «нет времени» на «подготовку», поэтому Младенец видит сразу Голгофу как вершину и точку Своего земного поприща. Так «прозрение» смыкается с «ясным оком», направленным в недоступную для обычного зрения область Вечного. И еще одно важное уточнение – не с жизнью, а с миром вступает в бой Христос. Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6) – Тот, Кто принес победу над смертью, не может воевать с жизнью – в высоком духовном смысле этого слова. Несмотря на то, что у Толстого в лирике «жизнь» неоднократно персонифицируется «бабой», «бабой-ягой», становится обозначением всего мелкого, дрянного, суетного, губительного для творческих устремлений души, здесь писатель меняет это слово на «мир», прежде всего имея в виду земное существование, не просветленное жертвой Спасителя. Не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34) – существенно и то, что будущее крестное страдание за всех неотделимо от борьбы, духовного меча, как Любовь и Гнев становятся главными Божественными дарами лирического героя стихотворения «Господь, меня готовя к бою…».
И все-таки в стихотворении Толстого перед нами не умиленно-молитвенное созерцание иконы, здесь немало эстетического любования совершенным воплощением духовного события в красках и линиях. Неслучайно в третьей и четвертой строках упомянута земная красота Марии, словно «отошедшая на второй план» внимания зрителя благодаря мастерской передаче гениальным живописцем «любви небесной» в Ее человеческих чертах. Вероятно, в этом выразилось не столько уже отмеченное ранее стремление сблизить земное искусство с религиозным служением как способом восхваления Творца, но и духовный такт Алексея Константиновича, никогда не описывавшего в лирических произведениях то, что изображено на православной иконе. Икона создается не для того, чтобы ей любоваться, – перед ней нужно молиться.
Поэтическая молитва

О молитве, ее целебном воздействии на душу, ее чудесной способности соединять духовно близких людей вне зависимости от расстояния между ними Алексей Константинович размышляет в письме к С.А. Миллер от 10 мая 1852 года: «…изо всех же действий самое могучее – действие души, и ни в каком положении душа не приобретает более обширного развития, как в приближении ее к Богу. Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил несчастие от любимого человека – не есть бесплодное дело, как уверяют некоторые философы, признающие в молитве только способ поклоняться Богу, сообщаться с Ним и чувствовать Его присутствие.
Прежде всего, молитва производит прямое и сильное действие на душу человека, о котором молишься, так как чем более вы приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь в независимость от вашего тела, и потому ваша душа менее стеснена пространством и материей, которые отделяют ее от той души, за которую она молится.
Я почти что убежден, что два человека, которые бы молились в одно время с одинаково сильной верой друг за друга, могли бы сообщаться между собой, без всякой помощи материальной и вопреки отдалению.
Это – прямое действие на мысли, на желания, и потому – на решения той сродной души. Это действие я всегда желал произвести на тебя, когда я молился Богу… и мне кажется, что Бог меня услышал… и что ты чувствовала это действие, – и благодарность моя к Богу – бесконечная и вечная… <…> Да хранит тебя Бог, да сделает Он нас счастливыми, как мы понимаем, т.е. да сделает Он нас лучшими» .
И еще одно замечательное место из письма Толстого к племяннику – Андрею Бахметеву: «Все зависит от тебя; но если ты когда-нибудь почувствуешь, что можешь свихнуться, помолись хорошенько Богу, и ты увидишь, как ты сделаешься силен и как тебе сделается легко идти по честной дороге» (от 17.08.1870 (351)).
Молитва в творчестве писателя представлена весьма разнообразно – в составе почти всех крупных произведений: молитвы Иоанна Грозного (роман «Князь Серебряный», «Смерть Иоанна Грозного»), Федора Иоанновича («Царь Федор Иоаннович»), Иоанна Дамаскина (поэма «Иоанн Дамаскин») и др.
Но собственно лирическое обращение к Богу у Толстого одно: стихотворение «Я задремал, главу понуря…» (до мая 1858).
Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю;
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою.
Как глас упрёка, надо мною
Свой гром призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прах бездействия смети.
Да вспряну я, Тобой подъятый,
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам! (1, 362)
Оно состоит из трех катренов и композиционно организовано логично и строго: в первом катрене – причина просьбы и сама просьба (задремал, не узнаю – дохни ); во втором катрене – уточнение того, о чем просит лирический герой (прокати, выжги, смети ); в третьем – желаемый результат воздействия на его душу Божественной помощи (вспряну, издам ).
Обращает на себя внимание обилие старославянской лексики в этом стихотворении: «главу», «глас», «прах», «вспряну», «подъятый», «млата». С одной стороны, это актуализирует наследие XVIII столетия, когда собственно церковный жанр в классицистической «системе координат» трансформировался в духовную оду. Вспомним, к примеру, «Утреннее размышление о Божием величестве…» М.В. Ломоносова, некоторые строки из которого словно цитирует Толстой:
Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи…
С другой стороны, церковнославянская лексика в стихотворении Толстого не создает пафоса особой торжественности, значительности разговора с Всевышним (как того бы следовало ожидать, имея в виду развитие классицистических традиций в лирике XIX столетия); наоборот, как ни странно, интонация этого разговора задушевна и «интимна», общение с Господом происходит как будто «с глазу на глаз», без посторонних «слушателей» или свидетелей. Можно предположить, что славянизмы здесь просто сигнализируют о предельной серьезности темы и ситуации. Почему же возникла необходимость в Божественной помощи? Поэт говорит об этом в первых двух строках:
Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю…
Так поэтически-лаконично передается особое состояние души, которое неоднократно осмысливалось в святоотеческой литературе, ведь сон с древних времен считается одним из синонимов или образов смерти, а в христианском понимании живого и мертвого сон обретает отчетливо духовное смысловое наполнение: Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос (Еф. 5, 14). «Дремотное» состояние души, о котором говорится в стихотворении Толстого, вызывает ассоциации с «окамененным нечувствием» – распространенным словосочетанием в сочинениях отцов Церкви: «Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия» (Иоанн Златоуст); «Иногда бывает на душе такое окамененное нечувствие, что грехов своих не видишь и не чувствуешь; ни смерти, ни Судии, ни суда страшного не боишься, все духовное бывает, как говорится, трын-трава. О лукавая, о гордая, о злобная плоть!» (Иоанн Кронштадтский).
Конечно, ощущение (смиренное признание) собственной недостаточности, греховности, слабости, «бескрылости» – необходимое условие и для встречи пушкинского пророка с Серафимом («Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился»), и для вознесения в Отчизну пламени и слова героя более раннего толстовского стихотворения («Меня, во мраке и в пыли / Досель влачившего оковы…»).
Однако здесь перед нами подчеркнуто «земная», конкретная «автопортретная» зарисовка – почти на уровне жеста. Но этот жест глубоко символичен: голова опущена вниз, то есть сознание погружено в созерцание дольнего, повседневного, суетного. Перед нами герой на пороге душевной смерти, и самостоятельно победить эту опасность он не может, ибо «прежних сил» не узнает. Конечно, речь идет о духовных силах – тех самых, что получены им в более раннем стихотворении «Господь, меня готовя к бою…»:
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил… (1, 286)
И обращение к Богу в молитве начинается со слова «Дохни». Тварь нуждается не только в сотворении, но и в поддержке, постоянной помощи своего Творца. Сонная душа должна быть разбужена «живящей бурей». Чаще всего даже в поэтическом словаре буря обозначает угрозу разрушения. А здесь как будто наоборот – она определена почти оксюмороном: «живящая». То есть буря есть некое благодатное потрясение, которое оживит омертвевшую душу. И далее метафора бури получает развитие, соединяясь с традиционным представлением о каре Господней в образе грозы:
Как глас упрека надо мною
Свой гром призывный прокати…
Удивительно то, что поэт здесь как бы меняет местами элементы сравнения: не голос упрека сравнивается с громом, а наоборот, поскольку именно человек «переводит» на понятный ему язык величественные природные явления, недоступные его власти. В том числе и через них он воспринимает Господа.
Даже на фонетическом уровне строка «Свой гром призывный прокати» словно передает раскатистое звучание небесного гнева; благодаря этой строке обнаруживается ключевая роль звука Р во всем стихотворении: лишь две строки из двенадцати лишены слов с этим звуком. Таким образом, аллитерация становится важнейшей фонетической «инструментовкой» смысловых мотивов поэтической молитвы Толстого: задРемать, понуРить, буРя, упРек, гРом, пРизывный, пРокатить, Ржавчина, пРах, вспРянуть, каРающий, удаР – эти слова составляют «концептосферу» стихотворения и передают движение лирической мысли и развитие лирического переживания, создавая определенное настроение у читающего или произносящего это стихотворение.
А небесный огонь, не названный в стихотворении, узнается через еще одно метафорическое действие: «выжги ржавчину покоя». Покой вообще в разных произведениях Толстого предстает и оценивается неоднозначно, ср. например, в «Василии Шибанове»:
Царь в смирной одежде трезвонит.
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит? (1, 250)
В этом контексте покой есть согласие с собственной душой, это покой победы над внутренними бесами. А в молитве покой становится ржавчиной, вызванной отсутствием движения. Покой статичен. Покой подобен смерти. Покой бесчеловечен и губителен. Почти в то же время и практически о том же говорит Л.Н. Толстой в одном из писем: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость» .
Мотив смерти развивается и в следующей строке: «прах бездействия смети». Звук, огонь (свет) и движение (дуновение) должны победить молчание, темноту и покой, в которые погружена душа лирического героя. Прах – напоминание о земной, смертной природе человеческого тела, но смести этот прах нужно именно с души, которая есть дуновение Божие. И тогда произойдет то, о чем говорится в третьей строфе:
Да вспряну я, Тобой подъятый,
И вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!
Во-первых, вместо движения вниз начнется подъем – воспарение. А во-вторых, окаменевшая душа «издаст» огонь, освободит его из плена. Это тот самый Божественный огонь, который горит (или тлеет) в любом человеке. И благодаря Божественной помощи он вырвется для соединения со своим первоисточником. Это и есть душа живая – душа, соединенная с Богом.
Парадоксально, что в молитве, на первый взгляд, сущность просьбы сводится не к прощению, а к наказанию (глас упрека во второй строфе превращается в карающие слова в третьей). Может показаться, что перед нами молитва о каре. Но эта кара должна быть обращена на пороки, на то, что мертвит душу. И тогда молитва становится просьбой о воскресении.
Удивительно и то, что, по мере произнесения молитвы, развития лирического монолога, происходит наяву то, о чем просит герой: его интонация идет по восходящей, и в конце стихотворения уже почти ничего не напоминает о первоначальной апатии-дремоте, и финальный восклицательный знак – своеобразный символ победы. Молитва услышана и исполнена как будто в самый момент произнесения, поскольку желание освободиться от худшего в себе, согретое искренней верой в Божественную помощь, – само по себе почти всемогуще.
Итак, религиозная проблематика в духовной поэзии А.К. Толстого включает в себя широкий спектр вопросов: соотношение вечного и временного в земной жизни человека; выбор пути; реализация дара, который понимается как миссия и ответственность; Красота и ее взаимосвязь с Истиной и Добром; искушение и душевная смерть, преодоление которой невозможно без Божественной помощи; слово и молчание; отречение и послушание; грех и его осуждение. Постановка и решение этих проблем показывают А.К. Толстого как глубокого и самобытного религиозного художника-мыслителя. Он искренне убежден в том, что вечное может стать актуальным без помощи злободневности, пока человек остается человеком и сталкивается с «проклятыми вопросами», на которые нужно искать свой ответ каждому поколению.
Хочется верить, что читатели нашего поколения заново откроют для себя творчество замечательного русского писателя. И это открытие будет сродни чуду самопознания, духовного преображения – и движения к Богу.
С каждым годом все сильнее становится желание Толстого оставить государственную службу и всецело предаться тому служению, к которому, как он чувствует, предназначил его Господь – литературному творчеству. Как отмечают многие исследователи, крик души, вырвавшийся из уст одного из самых любимых его героев, Иоанна Дамаскина из одноименной поэмы, выражает душевную тоску самого Толстого: «О государь, внемли: мой сан, // Величье, пышность, власть и сила, // Все мне несносно, все постыло. // Иным призванием влеком, // Я не могу народом править: // Простым рожден я быть певцом, // Глаголом вольным Бога славить!».
Однако этому желанию суждено осуществиться совсем не скоро: в течение многих лет Алексею Константиновичу не удается выйти в отставку, он получи т ее только в 1861 году.
Долго не складывается и его личная жизнь. Первое серьезное чувство Толстого было к Елене Мещерской. Однако когда Алексей просит у матери позволения сделать понравившейся ему девушке предложение, Анна Алексеевна своего благословения не дает. Алексей остается холостяком.
Эта ситуация в разных вариациях повторяется в течение многих лет: сердечная склонность Толстого к той или иной девушке пресекается матерью, то прямо выражающей свое несогласие с выбором сына, то незаметно устраивающей необходимость срочного отъезда Алексея или за границу, или к кому-то из родственников. Анна Алексеевна весьма строго контролирует жизнь Алексея, старается, чтобы он всегда был при ней (Алексей Константинович возит ее в театры и на концерты, они вместе посещают ее подруг), а если он уезжает куда-то без нее, она не ложится спать, пока он не вернется. Алексея такая «семейная» жизнь, кажется, не очень тяготит – он воспитан в послушании и любви к своей матери. Этой идиллии, однако, не суждено продолжаться вечно – Толстой, наконец, встречает ту, отношениями с которой он не готов пожертвовать с такой легкостью. Тем более что в ней он с первых же дней знакомства видит не только привлекательную женщину, но и ту, кого по-церковнославянски именуют «подружием»: соратницу, спутницу на жизненном пути. И прежде всего – помощницу на пути творческом.
«Я еще ничего не сделал – меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что я мог бы сделать что-нибудь хорошее, – лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, – и теперь я его нашел… это ты. Если я буду знать, что ты интересуешься моим писанием, я буду прилежнее и лучше работать», – писал он Софье Андреевне Миллер в самом начале их знакомства. Отношения их складывались непросто: муж, от которого Софи уже ушла, все равно не давал ей развода, а мать Алексея, как и во всех предыдущих случаях, была настроена резко против избранницы сына. Видя, что прежние уловки не действуют и намерения сына серьезные, Анна Алексеевна решила действовать в открытую. В один вечер она пересказала Алексею все слухи и сплетни, которые были связаны с именем его возлюбленной. Дело в том, что начало светской жизни Софии было омрачено любовной трагедией: за ней ухаживал князь Вяземский, как говорили, соблазнил ее – и женился на другой. Брат Софьи вступился за честь сестры и был убит на дуэли. Свет с удовольствием пересказывал эту историю, прибавляя к ней, видимо, множество других. И.С. Тургенев писал как-то Софии Андреевне: «Про вас мне сказали много зла…». «Много зла» о Софье рассказала тогда сыну и Анна Андреевна. Выслушав отповедь матери, Алексей Константинович бросил все и кинулся в Смальково – усадьбу Софьи Андреевны, чтобы узнать правду из ее собственных уст.
Вот как описывает это драматическое свидание современный прозаик Руслан Киреев: «Софья Андреевна встретила его спокойно. Напоила липовым чаем, усадила возле окна, за которым мокли под холодным дождичком облетевшие ивы, и – начала свою исповедь.
Не спеша… По порядку… Издалека…
Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы,
Все перечувствовал вместе с тобой, и печаль, и надежды,
Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я…
Затем поэт с присущей ему откровенностью признается, что не может… Нет, не не может, а не хочет забыть ни ошибок ее, ни – важное уточнение! – страданий. Ему дороги ее «слезы и дорого каждое слово». Именно в этом стихотворении впервые появляется сравнение с поникшим деревцем (не теми ли грустными ивами за окном навеянное? – Е.В.), которому он, большой, сильный, предлагает свою помощь.
Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!».
Откровенный разговор не разрушил их отношения, а напротив, сблизил влюбленных, ибо у Алексея Константиновича было доброе, мягкое сердце, способное жалеть и прощать.
Спустя несколько лет, во время войны, Толстой заболел тифом и Софья Андреевна, невзирая на опасность заразиться, выходила его, буквально вытащив с того света.
Последние годы жизни матери Алексей Константинович разрывался между ней и Софией. Несмотря на все трудности и недопонимание, несмотря на деспотизм Анны Алексеевны, они с матерью были очень близки, он привык делиться с ней радостями и горестями, он действительно искренне любил ту, которая с его рождения посвятила ему всю свою жизнь, и когда в 1857 году Анна Александровна умерла, Алексей был безутешен. Но ее смерть наконец позволила соединиться влюбленным – они стали жить вместе. Однако муж дал Софии развод только спустя несколько лет – они обвенчались в 1863 году. Господь не дал им своих детей, но они очень любили и привечали чужих, например, племянника Андрейку, к которому Толстой относился как к собственному сыну.
Любовь Алексея Константиновича и Софьи Алексеевны с годами не ослабела, и письма Толстого, написанные жене в последние годы его жизни, дышат той же нежностью, что и строки первых лет их общения. Так, Толстой пишет ей в 1870-м году: “…не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, – что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад».
Если подходить со строгой точки зрения церковных канонов, не все в жизни Алексея Константиновича соответствует православным нормам. 12 лет он жил с любимой женщиной невенчанным, по сути дела, – в гражданском браке. Не избежал он и греховного увлечения, охватившего в XIX веке почти все светское общество – «эпидемии столоверчения», иначе говоря, занятий спиритизмом. Несколько раз он присутствовал на «сеансах» известного спиритиста Юма, приехавшего в Россию. Живя за границей, Алексей Константинович и там посещал подобные мероприятия. Хотя сохранились довольно ироничные пересказы Толстого утверждений различных спиритов, якобы услышанных ими от «духов», Тютчев замечал, что в целом Толстой относился к столоверчению внимательно и достаточно серьезно: «Подробности, которые я слышал от Алексея Толстого, четыре раза видевшего Юма за работой, превосходят всякое вероятие: руки, которые видимы, столы, повисшие в воздухе и произвольно двигающиеся как корабли в море и т. д., словом, вещественные и осязательные доказательства, что сверхъестественное существует».
И невенчаный брак, и занятия спиритизмом, однако, – это, скорее, следствие общей духовной расслабленности общества в XIX веке. В жизни же Алексея Константиновича было и другое. Например, его пешие паломничества в Оптину, к старцам. Или его трепетное отношение к молитве, воплощавшееся не только в стихах («Молюсь и каюсь я, // И плачу снова, // И отрекаюсь я // От дела злого…»), но и в действительности. Так, сохранились свидетельства о том, как горячо он молился во время заболевания тифом, поставившего его перед лицом смерти. Что характерно – молился не столько за себя, сколько за дорогих людей, мать и Софию. Каково же было его потрясение, когда после одной из таких молитв, прерывавшихся минутами бреда, он, открыв глаза, увидел у своей кровати живую Софью, которая приехала, чтобы ухаживать за ним. Такой небесный ответ на его молитву очень укрепил веру Толстого.
Этой верой, тягой к Небу и тоской по нему пронизано все литературное творчество Алексея Константиновича: стихотворения, баллады, пьесы и прозаические произведения. Как писал в одном из своих стихотворений сам Толстой, «гляжу с любовию на землю, // Но выше просится душа». Впрочем, лучше всего свое литературное кредо А.К Толстой сформулировал в поэме «Иоанн Дамаскин», отнеся его к жизни своего героя – поэт должен своим творчеством присоединиться к славословию Бога, которое возносит весь сотворенный Им мир («всякое дыхание да хвалит Господа…»): «То славит речию свободной // И хвалит в песнях Иоанн, // Кого хвалить в своем глаголе // Не перестанут никогда // Ни каждая былинка в поле, // Ни в небе каждая звезда».
Я вас узнал, святые убежденья,
Вы спутники моих минувших дней,
Когда, за беглой не гоняясь тенью,
И думал я и чувствовал верней,
И юною душою ясно видел
Всe, что любил, и всe, что ненавидел!
Средь мира лжи, средь мира мне чужого,
Не навсегда моя остыла кровь,
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежний гнев и прежняя любовь!
Рассеялся туман и, слава богу,
Я выхожу на старую дорогу!
По-прежнему сияет правды сила,
Ее сомненья боле не затмят,
Неровный круг планета совершила
И к солнцу снова катится назад,
Зима прошла, природа зеленеет,
Луга цветут, весной душистой веет!

Художник Брюллов. А. К. Толстой в юности
Алексею Толстому в юности пророчили блистательную дипломатическую карьеру, однако молодой человек очень скоро осознал, что не хочет манипулировать сознанием людей. Воспитанный на стихах Лермонтова, этот представитель знатного дворянского рода пытался во всем подражать своему кумиру. Не исключено, что именно по этой причине Алексей Толстой вскоре начал писать стихи, пытаясь выразить в них свои истинные чувства. Так же, как и Лермонтов, за блеском и мишурой высшего света он видел лживость, жеманство и предательство. Поэтому дал слово, что хотя бы перед собой останется честным.
Вскоре судьба вынудила Алексея Толстого вступить в открытое противостояние со светским обществом, которое причислило молодого поэта к изгоям. Все дело в том, что он имел неосторожность влюбиться в замужнюю даму, и та ответила ему взаимностью. Подобные романы никого не удивляли и не шокировали, однако когда пара объявила о своем намерении сочетаться узами брака, это вызвало волну осуждения среди местной аристократии. Мать поэта была категорически против этого союза, поэтому влюбленные смогли узаконить свои отношения лишь спустя 13 лет после знакомства. Именно в тот период, осенью 1858 года, Толстым было написано стихотворение «Я вас узнал, святые убежденья…».
К этому моменту поэт уже давно перерос период юношеского максимализма. Тем не менее, автор все же сумел сохранить в душе те идеалы, которые были для него так важны в молодости. С некоторой долей грусти толстой признается, что раньше «и думал я, и чувствовал верней», имея четкое представление о том, что следует любить, а что - ненавидеть. Но в то же время Алексей Толстой отмечает: «Средь мира лжи, средь мира мне чужого, не навсегда моя остыла кровь». Он знает, что способен отстаивать собственное мнение, даже если оно идет вразрез с тем, что думают окружающие . При этом поэт по-прежнему остается чист перед собой, так как он не предавал друзей и любимую женщину, не лгал и не пытался придерживаться правил поведения в светском обществе, если считал их глупыми. «По-прежнему сияет правды сила, ее сомненья боле не затмят», — отмечает поэт, подразумевая, что не раскаивается в своем выборе жизненной позиции.

Софья Миллер
И это касается не только противостояния высшему свету, но отношений с Софьей Миллер, которую поэт боготворил и считал эталоном женственности несмотря на то, что долгие годы она оставалась законной супругой другого человека.
[ Радио Свобода: Программы: Культура ]
Судьба Алексея Толстого
Автор и ведущийИван ТолстойИван Толстой: Наша программа сегодня приурочена к 60-тилетию со дня кончины прозаика, драматурга, поэта, сказочника, публициста, журналиста Алексея Николаевича Толстого, который скончался 23 февраля 1945 года, немного не дожив до Дня победы.
Противоречивая фигура. Поклонников его литературного таланта, пожалуй, столько же, сколько противников его гражданской позиции. Я надеюсь, что в сегодняшней программе, мы с нашей гостьей попробуем разобраться в этих противоречиях и понять, какое место в истории отечественной литературы занимает Алексей Толстой. Наш гость сегодня - Инна Георгиевна Андреева, заведующая музеем Алексея Толстого в Москве.
Прежде всего, вокруг Алексея Толстого есть несколько легенд, которые хотелось бы сразу развеять. Инна Георгиевна, я рассчитываю на вашу помощь. Происхождение рода Толстых. Говорят, что Толстые это однофамильцы - литераторы, художники, скульпторы, и т. д. - а некоторые говорят, что это один большой род. Что по этому поводу говорит наука вашими устами?
Инна Андреева: Большой род, ведущий начало от литовского князя Индриса или, как это звучит по древнелитовски, Интриус, что значит "кабан". У Индриса было двое сыновей - Литвинос и Зимонтен. Зимонтен был бездетным, а от Литвиноса уже пошел род очень разветвленный - род Толстых. Некоторые из историков считают, что этот самый Индрис - в крещении Леонтий - на самом деле был не Индрисом, а одним из сыновей монгольского хана Тен-Гри. На самом деле, основная часть историков развенчивает эту теорию, поэтому мы остановимся на Индрисе, литовском князе. Далее, там идет очень разветвленное древо Толстых, и давайте подойдем, конкретно, к Петру Андреевичу Толстому.
Иван Толстой: Напомните нам, пожалуйста, кто это такой.
Инна Андреева: Тот самый Петр Андреевич, известный Петр Андреевич Толстой, дипломат, соратник Петра Первого, посланник в Турции от России, который оказал неоценимые услуги отечеству и был награжден за это и орденом Андрея Первозванного, и графским титулом - кстати, вот откуда идут графы Толстые.
Иван Толстой: Не могли бы вы уточнить, за что же конкретно получили Толстые графский титул.
Инна Андреева: Вот тут уже несколько версий. Одна их самых устойчивых версий - это не за очень благовидный поступок, то есть это именно Петр Андреевич Толстой привез обратно в Россию царевича Алексея. Даже существует такая легенда, что перед смертью царевич Алексей проклял род Толстых до двадцать шестого колена.
Инна Андреева: Нет, именно от Петра Андреевича, к сожалению.
Иван Толстой: Тогда это надолго: Какова судьба Петра Андреевича?
Инна Андреева: Закончил он плохо. Говорят, он был сослан, как ближайший соратник Петра, на Соловки. Соловки, оказывается, не такое уж и близкое прошлое, как могло бы показаться.
Иван Толстой: А, правда, что он был сослан туда со своим сыном? Он, кстати, сам был тогда глубоким стариком.
Инна Андреева: Да, безусловно. Я хотела бы вернутся к продолжению рода, так как генеалогическое древо, повторю, разветвленное, и это тема для трехчасовой беседы, если не больше. Поэтому мы остановимся уже на последующих Толстых. Это Федор Толстой, от которого пошли уже более конкретные ветви. Очень многих интересует вопрос, родственники ли Алексей Николаевич Толстой и Лев Николаевич Толстой, Алексей Константинович Толстой, Толстой-американец, Федор Константинович Толстой, медальенист, и т. д. Да, безусловно, они родственники. Посмотрите, у них общий пращур, Петр Андреевич Толстой. У Петра Андреевича было двое детей. Один бездетен, а по линии другого сына - Ивана - идут уже Андрей, Илья, и т. д. и от Ильи уже идут Лев Николаевич, Алексей Константинович - этой же ветви. У Ивана, у которого два сына, Андрей и Федор, потом у Федора Степан, Петр, Александр и т. д., и мы подходим уже к Федору. Николай Александрович, у которого было пятеро детей, и ребенком одного из них был Алексей Николаевич Толстой. Когда спрашивают, какие конкретно родственные связи у Льва Николаевича и у Алексея Николаевича, начинаешь четко считать, и тогда получается, что родственники очень дальние - четвероюродный, внучатый, пра-пра-пра-племянник Льву Николаевичу. Кажется, что это, как говорится, "десятая вода на киселе". На самом деле, у них единый предок, Петр Андреевич Толстой, и поэтому, конечно же, все Толстые родственники.
Иван Толстой: Как говорил Блок, "дворяне все родня друг другу", ну, а Толстые тем более. Есть устойчивая легенда о том, что Алексей Толстой не сын своего отца. Там ведь была большая семейная драма еще до его рождения. Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом.
Инна Андреева: Безусловно, это была очень популярная версия среди первой русской эмиграции в 20-е и 30-е годы. Берберова об этом писала. На самом деле, это совсем не так. Алексей Николаевич был пятым ребенком графа Николая Александровича Толстого и его жены, Александры Леонтьевны Тургеневой. Александра Леонтьевна Тургенева, довольно известная в свое время детская писательница, курсистка, женщина передовых взглядов. Она полюбила молодого разночинца, мелкопоместного дворянина, Алексея Бострома и ушла к нему, потому что Николай Александрович Толстой был типичный, на ее взгляд, самодур, и она, как все русские женщины, пыталась спасти Алексея Бострома, а тот был несчастен, у него было слабое здоровье и еще было много слагаемых.
Иван Толстой: За муки полюбила.
Инна Андреева: Конечно, конечно. И она ушла к Бострому, но Николай Александрович, встретив Бострома в поезде - это известно, - чуть в него не выстрелив, узнал адрес их местопребывания и вернул, силой, Александру Леонтьевну. Они опять жили вместе.
Иван Толстой: Просто бразильский сериал.
Инна Андреева: Ну что вы! При этом Бостром писал плакучие письма, умоляя Александру Леонтьевну вернутся, утверждая, что без нее ему не жизнь, и т. д.
Иван Толстой: Так как же разобраться, от кого из них ребенок?
Инна Андреева: В одном из писем, когда она отказывается вернуться по серьезным причинам, она пишет, что "к сожалению, это стало совсем невозможным, потому что я беременна и уже на пятом месяце". И, тем не менее, Бостром все-таки ее уговаривает, и она-таки и уезжает к нему, и когда уже состоялся суд, на котором разводили супругов Толстых, Александра Леонтьевна поклялась, что ребенок Алеша - Алексей Николаевич Толстой уже родился - сын Бострома.
Иван Толстой: И при этом она знала, что нарушает клятву?
Инна Андреева: Она совершает клятвопреступление. Это раз. Во-вторых, поймите ее как женщину и как мать. Граф Толстой оставил троих оставшихся в живых детей - девочка Прасковья умерла в пятилетнем возрасте - Александра, Елизавету и Мстислава себе. Он категорически им запретил общаться с матерью. Поэтому она, чтоб хотя бы маленького оставить себе, совершила клятвопреступление. Но вот что интересно. Перед смертью граф Николай Александрович Толстой составил завещание в пользу четверых своих детей, имея ввиду и Алешу. Это говорит о том, что он прекрасно знал, что Алексей - его сын.
Иван Толстой: Самодур самодуром, а голова его не покинула в последний момент.
Инна Андреева: Вы знаете, у нас часто говорят, особенно посетители музея, "ну что вы хотите, граф все-таки". Это звучит очень мило.
Иван Толстой: Маленький Алексей Толстой поселился вместе со своей матерью и отчимом на хуторе, под Самарой, а что случилось с ним дальше? По какому пути он пошел?
Инна Андреева: Знаете, писателем сразу не становятся. В принципе, он очень любил читать с матерью разные книги, читал очень много и т. д., но, тем не менее, пошел учиться в знаменитый Петербургский Технологический Институт. Он, собственно говоря, его и закончил, только не получил диплом, но, в принципе, прошел весь курс обучения.
Как раз в связи с этим, всегда, когда говоришь о его произведениях, особенно посвященных технике, - и "Гиперболоид инженера Гарина", и "Аэлита", и "Бунт машин", - не удивляешься каким-то вещам, которые понимал Алексей Толстой, потому что у него было серьезное техническое образование. Но в России начала века творилось нечто невообразимое. Кто-то становился поэтом, или ему казалось, что он становится поэтом, кто-то писателем, кто-то актером. Жизнь бурлила, и было такое сумасшествие, страх перед грядущим, как перед какой-то катастрофой. И на вот этой волне возникали всевозможные литературные, театральные, философские объединения, мимо которых не мог не пройти юный Алексей Толстой. Конечно, он взбредал и на знаменитую "Башню" Вячеслава Иванова, во всевозможные литературные кабаре, и т. д. А поскольку материнское воспитание, привитие ею любви к языку, к литературе, возымело свое действие и не прошло даром, он почувствовал в себе позывы к работе со словом, с языком, и стал писать стихи. Уехав в Париж, он познакомился с Николаем
Степановичем Гумилевым, и отсюда началась его поэтическая деятельность. Потом было знакомство с Брюсовым, с Андреем Белым, с Вячеславом Ивановым, и т. д. Он выпустил два стихотворных сборника, "Лирика" и "За синими реками". Да, критика может их хулить за какое-то подражательство, за попытку соседствования с символизмом. Но, тем не менее, они были искренни. Они шли от сердца, и недаром Валерий Брюсов хвалил эти стихи. Даже Гумилев, который очень трепетно относился к стихосложению, относился к ним на грани - то очень ругал, то очень хвалил - и рекомендовал Толстого как достаточно занятного нового поэта, который появился на горизонте русской литературы. "Еще один Толстой", как говорил он, и был прав, поскольку последующее творчество Толстого доказало, что он писатель божьей милостью.
Иван Толстой: То есть, можно сказать, что мама в нем победила и папу и отчима. Вы сказали, что его мать, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева. А что это за Тургеневы? Какое отношение имеют они к писателю Ивану Сергеевичу?
Инна Андреева: У Тургеневых тоже очень разветвленное древо, но если говорить поближе, то она родственница Николая Тургенева, того самого, который был декабристом.
Иван Толстой: Значит, тем самым, и Александра, который был другом Пушкина и ездил хоронить его в Святые Горы?
Инна Андреева: Безусловно, и надо сказать, что в биографии Алексея Николаевича Толстого, любимым поэтом которого, кстати, был Пушкин, просматривается очень четкое соединение с этим любимым поэтом. И со стороны Толстого-Американца, который просватал, наконец-то, Гончарову за Пушкина, и со стороны Александра Тургенева. То есть, эти связи с Пушкиным у Алексея Николаевича прослеживаются очень серьезные. Вообще, я думаю, там связи и биографические и творческие и, кстати, поведенческие, что очень интересно, и это отдельная тема для разговора.
Иван Толстой: Но родство с Николаем и Александром Тургеневыми - тоже не прямое, а двоюродное. Александра Леонтьевна была внучкой Бориса Тургенева, который приходился двоюродным братом этим двум. Они в письмах его называли "гнусный крепостник, брат Борис". Так вот, Алексей Николаевич все-таки не от декабриста, и не от пушкинского Александра, а от "гнусного крепостника, брата Бориса". Родственников себе мы, естественно, не выбираем. А вот родство с писателем, Иваном Сергеевичем каково?
Инна Андреева: Очень дальнее.
Иван Толстой: Я помню, что в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, по-моему автором был Семевский, говорилось, что Николай Тургенев (декабрист, который находился в изгнании и не возвращался, потому что ждал смертный приговор, вынесенный следственной комиссией Николая Первого) встречался с Иваном Сергеевичем заграницей, в Париже, и они считали себя, говорится в статье, родственниками, но, говорит словарная статья, эти родственные связи проследить не удается. Тургенев - фамилия выходца из Золотой орды, и, насколько я помню, юный Алексей Толстой использовал, несколько переиначив, эту фамилию в свои ранние годы и даже подписывался этой фамилией.
Инна Андреева: Вы знаете, я этого не помню.
Иван Толстой: Какие-то его рассказы подписаны псевдонимом "Мирза Тургень", а деревня, где происходит действие некоторых его ранних вещей, называется Туренево.
Инна Андреева: Конечно, конечно. Он гордился своими предками.
Иван Толстой: Алексей Толстой, у большинства людей, как-то не ассоциируется с людьми Серебряного века, хотя он весь его пророс и был знаком с огромным количеством людей. Чуть ли не название кабаре "Бродячая собака" принадлежит ему. Но все-таки он не ассоциируется с Серебряным веком. Может, это какое-то массовое заблуждение, или что-то в этом есть?
Инна Андреева: Вы знаете, по-моему, это - массовое забвение. У специалистов Алексей Толстой очень даже ассоциируется с Серебряным веком и его представителями. Тем не менее, вы совершенно правильно сказали, что Толстой был одним из учредителей кафе поэтов "Бродячая собака", и, соответственно, "Привала комедиантов". Это раз. Алексей Николаевич Толстой был дружен с Гумилевым. После их знакомства в Париже, они даже издали журнал "Остров" - знаменитый журнал, для тех, кто интересуется Серебряным веком.
Надежда: Хотелось бы, чтоб передача про такую замечательную личность, как Алексей Толстой, была многосерийной! В моей любимой детской книге "Детство Никиты" чувствуется некоторая изоляция семьи, живущей среди степи. Связано ли это как-то с тем, что его мать, Александра Леонтьевна, была исключена из светской жизни на своеобразном островке природы?
Инна Андреева: Я совершенно согласна с нашей слушательницей. Это было, с одной стороны, так. С другой стороны, Александра Леонтьевна этого хотела. Она хотела этого растворения в семье, природе, и вообще "Детство Никиты" это - книга счастья. Она дистанцируется тем миром, в котором есть войны, кровь, горе. На мой взгляд, это самая счастливая книга в мире.
Иван Толстой: Недаром у нее подзаголовок - "Повесть о многих превосходных вещах".
Инна Андреева: Безусловно. И вот эта дистанция, на мой взгляд, была намеренна, и она намеренно соблюдена Алексеем Николаевичем, потому что он написал книгу о множестве самых превосходных вещей - книгу счастья, а счастье не может соседствовать с горем.
Иван Толстой: Может быть, к этому можно добавить и то, что он писал ее в ситуации изоляции - в эмиграции, чувствуя свою оторванность от родины, и это, возможно, многократно усиливало то чувство, которые передано герою этой повести и всей атмосфере этого хутора.
Инна Андреева: Да, и это сбережение ребенка от всех бед обид - это тоже чувствуется: Это, кстати, моя самая любимая книга.
Александр (Санкт-Петербург): "Детство Никиты" и "Гадюку" люблю у Толстого. Вопросов у меня три. Первый: понятно, Блок и Толстой - антиподы, но откуда такая патологическая ненависть к Блоку? У Бунина это понятно, а у Толстого не совсем. Второй: Пушкин у всех кумир, а из современных писателей, кто был для Толстого из современников "значимым" писателем? Пруст, Джойс, Кафка - понятно, нет - они тоже антиподы. И третий: особенности стиля Толстого. Говорят, что у него архаичный стиль, и никаких новаций в нем не присутствует. Что вы можете по этому поводу сказать?
Инна Андреева: На самом деле, я полагаю, что никакой "природы" ненависти не было. Я понимаю, что имеет в виду наш слушатель - это поэт Бессонов в "Хождении по мукам", Пьеро в "Золотом ключике". Ненависти не было. Просто, Алексей Николаевич, будучи человеком веселым, теплым, взрывным, не понимал холодности Блока. Но он безусловно понимал его поэзию. Даже если обратится к дневникам самого Блока, к дневникам Алексея Николаевича - он был гостем Блока, почитал его поэзию, но она была не его. Как кто-то любит Достоевского, а кто-то Льва Толстого. Ненависти, как таковой, не было - было только мелкое хулиганство, если говорить о "Егоре Абозове" и литературной части "Сестер". Он играл - как с куклами, как с марионетками. Возможно, все-таки, имея в виду собирательный образ, о чем сам Алексей Николаевич говорил неоднократно, когда его обвиняли в нелюбви к Александру Блоку. Безусловно, он почитал его как поэта, и даже нельзя сказать, что был дружен, но был принимаем в доме Блока и отзывался о нем весьма положительно. Видимо, он просто его не понимал как человека. Он казался ему очень холодным и отстраненным человеком.
Иван Толстой: Я бы распространил то, что вы сказали не только на Блока, но и на многих персонажей Серебряного века. Вообще, может быть, на Петербург. Здесь была глубочайшая разница в природе психики Алексея Толстого и людей Серебряного века. Алексею Николаевичу, насколько я понимаю его как писателя, вообще был чужд модернизм в целом. Ему была чужда мистика, идеалистическое мышление, всяческий - как он это называл - "туман в литературе". Он был писатель, конечно же, крепкой и мощной реалистической складки. Недаром Федор Соллогуб произнес о нем слова, которые кто-то оценивает как оскорбительные, а я считаю - как слова, попадающие в точку, в десятку; он говорил, что "Алешка Толстой брюхом талантлив", и это пусть и грубые слова, но они совершенно точные. Это характеризует писателя реалистического направления. Алексею Толстому был чужд весь Петербург; он из него бежал. Вы говорите, что он был принимаем в доме Блока. Когда-то принимаем; какое-то время - да. Но Блок же записывал в своей записной книжке, что его зовут на чтение очередной пьесы Толстого - "не пойду", пишет Блок. Это не случайно, и, конечно, Толстой потом очень много его высмеивал в некоторых персонажах. А когда Блок скончался, то, как это часто бывает, началось принятие человека и целого его мира, и известно, по воспоминаниям, что Толстой в 40-е годы, во время войны очень много читал Блока - все три тома его стихов, и как бы снова впустил в свое сердце. У слушателя Александра был еще один вопрос. Кто их современных Толстому писателей был ему близок?
Инна Андреева: Это надо подумать. Во-первых, он любил Ремизова, и это понять можно.
Иван Толстой: Но, опять-таки, ту его сторону, которая более уходила в почву, уходила корнями в народ, в фольклор, который сам отлично чувствовал Алексей Толстой. А вот ремизовскую мистику он тоже не терпел. То есть, в Ремизове он принимал только свою часть.
Инна Андреева: Конечно. Ему нравился Гумилев.
Иван Толстой: За отсутствие мистики.
Инна Андреева: Совершенно верно. Ему нравились особенно его циклы путешествий.
Иван Толстой: А не принимал ли он Брюсова только потому, что видел рационализм брюсовской литературной игры? Когда Брюсов притворяется символистом и напускает на себя "туману", это все игра в туман и игра в символизм, игра в неясные, символистические миры? Ведь, на самом деле, Брюсов был сверх-реалистический человек и писал свои стихи просто как разыгрывал шахматные партии.
Инна Андреева: Алексей Толстой это прекрасно понимал. Он даже иногда его сравнивал с нелюбимым им - до поры до времени, правда, - Достоевским. Да, Брюсова не любил, хотя почитал и уважал в нем профессионала.
Иван Толстой: Насколько я понимаю, он любил Бунина.
Инна Андреева: Ой, как же я забыла Ивана Алексеевича! Он очень любил Бунина.
Иван Толстой: Который, в свою очередь, тоже терпеть не мог символистов! И, по-моему, за то же самое.
Инна Андреева: Конечно. И который тоже, в это же время - скажем, до 20-х годов, - с большим уважением относился к творчеству Алексея Николаевича, особенно к его прозе.
Иван Толстой: Насколько я понимаю, он любил Лескова и писателей-реалистов XIX века; обожал Чехова; потом, из более молодых, Булгакова. То есть, всю реалистическую линию в литературе.
Инна Андреева: Да, мы говорим о современных писателях. Кстати, он совершенно не выносил Леонида Андреева, что совершенно понятно и объяснимо.
Георгий Георгиевич (Санкт-Петербург): Я хотел бы посмотреть на творчество Алексея Толстого с гораздо более широких позиций. Как известно, в 17-м году Ленин установил первое в мире тоталитарное государство. Второе, как известно - Муссолини, а третье - Адольф Гитлер. Так вот, не правильно ли будет рассматривать творчество Толстого, который, как известно, прославлял Ивана Грозного в годы Сталина - а сталинская эпоха, это - десятки миллионов жизней людей, не правильно ли было бы рассматривать его творчество с точки зрения приспособления к этому тоталитарному государству, которые принесло столько бед народам России. И рассматривать таким образом не только творчество Алексея Толстого, а также писателей, которые работали на потребу тоталитарного режима. А что касается "Детства Никиты", то это все писали - и Аксаков, и Лев Николаевич, это слишком просто.
Инна Андреева: Я не согласна с нашим слушателем. Что мы тогда будем говорить о Зощенко? Он писал рассказы о Ленине. Булгаков писал "Батум". Они все работали на власть. Известная истина: "нет пророка в своем отечестве". Скажем, роман "Петр Первый", дилогия об Иване Грозном. Просто, зная творчество обсуждаемого писателя, если проследить его, то о Петре Первом он начал писать еще до революции. Эта тема его всегда волновала, и Петр Первый писался совсем не на потребу власти.
И, вообще, к этому можно подойти и с совсем другой стороны. Это как бегство от действительности. Ведь посмотрите: Алексеем Толстым не написано ни одного романа о пятилетке, скажем, о строительстве ГЭС, о Беломорканале, о решениях партийных съездов. У него сплошное бегство в прошлое.
Иван Толстой: Ну, не совсем в прошлое. Например, роман "Хлеб" - это не совсем прошлое, а всего лишь вчерашний день, причем настолько вчерашний, что не успели отоспаться, как он уже сегодняшний. Мне хотелось бы все-таки сказать, что в позиции нашего слушателя есть и доля правды. Алексей Толстой был писателем, приспособившимся к своему времени. Я совершенно не хотел бы это скрывать, и не хотел бы, чтобы наша передача перелицовывала фигуру Алексея Толстого. Он действительно приспособился к власти. Он был человеком, который написал много десятков, а возможно и сотен, позорных страниц, которые, я уверен, в другую эпоху он не стал бы писать, но он был, по-своему, вынужден их писать. Он согласился жить в эту эпоху, существовать, кормить себя и свою семью. Он был вынужден это написать, и в этом была его человеческая слабость. У него был выбор, как у всякого человека, для которого существует честь, он выбрал именно такой путь.
Я считаю, что он совершенно справедливо критикуем и должен быть морально осужден. За роман "Хлеб" нельзя приветствовать писателя.
Другое дело, что вся история его возвращения из эмиграции в СССР - тогда еще Советскую Россию - была связана с его природной потребностью, и тут он следовал исключительно за зовом своего сердца, и прислушивался к своему внутреннему голосу. Вся эта история связана с тем, что он хотел быть "цельным человеком", остаться им. В эмиграции он чувствовал себя не в своей тарелке, чувствовал себя без читателя, видел, насколько, оказывается, бывает ограниченной аудитория заграницей. Он видел, насколько борются, как пауки в банке, многие эмигранты. Конечно, там были замечательные, достойнейшие люди, но, тем не менее, ему виделось ограниченное поле для его художественной деятельности. Ему хотелось быть со своим народом. Можно ли упрекать человека за такой зов сердца? Я не стал бы.
И вот, он вернулся в Советскую Россию. Он знал, на что он идет. Он, еще в эмиграции, пошел на этот компромисс. Он согласился - он продал душу дьяволу. Может быть, не всю. Какой-то художественный кусок он для себя оставил. Поэтому у него и получались такие замечательные лирические вещи, которые он потом написал в Советском Союзе. Тот же, в конце концов, "Буратино". Но уже раз согласившись на сделку с дьяволом, он был вынужден танцевать по тем правилам, которые задавались. Он хотел оставаться человеком цельным, спать спокойно; он считал, что он будет спать спокойно, если его душа не будет раздваиваться - если он будет писать то, что он думает, думать то, что приказывает думать эпоха. Посмотрите, он ведь не написал ни одного произведения "в стол". Почти от каждого писателя 20-х и 30-х годов, от сталинской эпохи, остались произведения, написанные в стол, то есть написанные для себя, для души, для бога. У Алексея Толстого, видимо, бога не было. У него не было потребности высказаться, как на Страшном суде. Он считал, что должен писать только то, что может быть немедленно напечатано. Практически все его произведения и печатались. Ничего, ни строки, кроме частных писем, не осталось.
Но, конечно, у этого человека была и гражданская позиция, и в те годы, когда это было еще "возможно", он кого-то защищал и есть целый ряд свидетельств о том, что некоторые люди были спасены, кто-то возвращен к своей профессиональной деятельности, кто-то избежал ареста, кто-то поправил свою судьбу, и это ему тоже будет на Страшном суде засчитано.
Во время войны Алексей Толстой с радостью отдался патриотической позиции и писал те произведения, в которых, безусловно, звучит его чистый, смелый голос; где не нужно было притворятся, прислушиваться к каким-то обстоятельствам. Инна Георгиевна, я благодарю вас за то, что вы принесли на нашу передачу историческую запись - выступление Алексея Толстого перед военнослужащими в 1943-м году в Барвихе. Давайте послушаем. Говорит Алексей Толстой:
Алексей Толстой: Мы, русские - оптимисты. Каждым явлением мы ищем возможности обратить его на счастье человека. Так и в этой жестокой войне. Мы упорно видим другой берег - по ту сторону победы; берег, где будет отдых и начало великого, завоеванного счастья. Нацизм, как в арабской сказке, выпустил на свободу свирепого джина - духа зла и порока - из зачарованного кувшина. Но зло есть признак несовершенства и слабости, и мы с вами загоним свирепого, нацистского джина обратно в кувшин и швырнем его в пучину безвременья. Так будем друзьями и хорошими драчунами за все доброе и прекрасное на земле!
Иван Толстой: "Есть ли у вас дома книги Алексея Толстого?" Такой вопрос задавал наш корреспондент в Петербурге, Александр Дядин, прохожим. Послушаем ответы.
Прохожий: Есть, обязательно. Это школьная программа, а у меня дети. У нас сейчас все историческое впечатление о Петре осталось именно от его романа и от фильмов, снятых по нему.
Прохожая: Я не знаю какие, но есть. Папа им увлекается.
Прохожий: Там фантастика, по-моему, или что-то такое. Я это в школе проходил.
Прохожая: "Князь Серебряный", стихи. Мне очень нравилось в свое время. Я читала это, в основном, в юности. Потом - сыну, он сейчас молодой человек, но ему понравилось. "Князь Серебряный" произвел на него большое впечатление.
Прохожий: "Аэлита", например. Я, когда его читал - по-моему, в школе. Конечно, его фантастика подкупала.
Прохожая: Да, есть, но точно сказать не могу. Это, скорее, вопрос к моим родителям. Помню, на отдельной полочке был, я еще в детстве различала.
Прохожий: Есть книги. Четыре, кажется. Но я сейчас не помню, какие.
Прохожая: Есть. Но я только "Аэлиту" помню - дедушка заставлял читать. Но я воспринимала это по-другому, потому что написано про революцию и все такое. Я думаю, он сейчас несовременен. Для общего развития и увеличения кругозора, то да. Когда читают книгу, один видит одно, другой - другое, а третий вообще ничего не видит. Я бы, например, своих детей заставляла читать.
Прохожий: Алексей Толстой, это который написал "Петр Первый", "Хождения по мукам" - прекрасный роман. "Буратино", понятно. Нормальный писатель, хотя некоторые и считают, что он писал несколько идеологизированно. "Хождение по мукам", все-таки, роман, который поднимал советскую власть: Самое главное, что читается легко. А то, бывает, берешь Диккенса в переводе - не читается.
Прохожая: Есть. Последнее, что читала, это - "Клякса". Это очень душевное. Не познавательный текст, а именно передает эмоции, дух того, о чем он пишет. Я думаю, что его нужно изучать в школе, что его зря пропускают. Это - классика, что можно сказать?
Прохожий: Есть, но, честно говоря, не помню, что. У родителей библиотека, только они это все читают. Я даже не читаю такие книги - мне бы что-нибудь попроще.
Прохожая: Есть, конечно. Я даже не помню, может, какие-то школьные произведения. Читала, но не особо интересен. Понятно все, конечно, но не все интересно. Сейчас молодежь другая.
Прохожий: Я не помню. Он внес, наверное, какой-то вклад в литературу, но я вообще классику немного читаю. Сейчас это, по-моему, мало кого интересует.
Прохожая: Безусловно, "Петр Первый". По-моему, это первый умный взгляд на историю. Ну и вообще, историческое и психологическое описание любых моментов у него гениальное. Думаю, что он был востребован и во время своей жизни, и будет востребован всегда.
Иван Толстой: Последний вопрос вам, как заведующей музея. Кто приходит в музей писателя?
Инна Андреева: Приходит очень много детей, приходят студенты, очень много иностранцев. Опять же повторю, "нет пророка в своем отечестве". Например, шведы и японцы, отмечаем, очень хорошо ориентируются в толстовском романе "Петр Первый". У них дикое количество переводов этого романа. Причем, переводов совершенно разных, и разных переводчиков. Шведы, вообще, очень любят Алексея Толстого, особенно "Петра Первого", и, кстати говоря, "Золотой ключик", как это ни странно. Дети приходят посмотреть на настоящего Буратино, посмотреть, как жил писатель. С удовольствием приходят. Молодежь, к сожалению, очень часто путает его с Алексеем Константиновичем. Говорят, "Князь Серебряный" читали, а остальное - нет. Когда пытаешься им объяснить, что это совсем разные писатели, и рассказать о произведениях Алексея Николаевича, оказывается, что они ничего не читали. Взрослые люди очень любят "Хождение по мукам", особенно его первую часть. Приходят к Алексею Толстому в музей, в его дом, как к автору "Петра Первого" очень многие, и очень многие утверждают, что "Золотой ключик" будет вечно. Большинство, конечно, приходят как к автору "Золотого ключика".
Проклятье, которого не было.
Церковь и Толстой: история отношений
В истории русской литературы нет, пожалуй, темы более тяжелой и печальной, чем отлучение Льва Николаевича Толстого от Церкви. И в то же время нет темы, которая породила бы столько слухов, противоречивых суждений и откровенного вранья.
История с отлучением Толстого по-своему уникальна. Ни один из русских писателей, сравнимых с ним по силе художественного дарования, не враждовал с Православием. Ни юношеское фрондерство Пушкина, ни мрачный байронизм и нелепая смерть на дуэли Лермонтова не вынудили Церковь перестать считать их своими детьми. Достоевский, прошедший в своем духовном становлении путь от участия в подпольной организации до пророческого осмысления грядущих судеб России; Гоголь, с его "Избранными местами из переписки с друзьями" и " Объяснением Божественной литургии"; Островский, которого по праву называют русским Шекспиром, Алексей Константинович Толстой, Аксаков, Лесков, Тургенев, Гончаров... В сущности, вся русская классическая литература XIX века создана православными христианами.
На этом фоне конфликт Льва Толстого с Русской Православной Церковью выглядит особенно угнетающе. Наверное, поэтому любой интеллигентный русский человек вот уже более ста лет пытается найти для себя объяснение противоречию: как же так, величайший из отечественных писателей, непревзойденный мастер слова, обладавший потрясающей художественной интуицией, автор, при жизни ставший классиком... И в то же время - единственный из наших литераторов, отлученный от Церкви.
Вообще русскому человеку свойственно становиться на защиту гонимых и осужденных. Причем неважно, за что именно их осудили, почему и откуда гонят. Пожалуй, главная черта нашего национального характера - сострадание. А пострадавшей стороной в истории с отлучением в глазах большинства людей, безусловно, выглядит Толстой. Его отношения с Церковью часто воспринимаются как неравный бой героя-одиночки с государственным учреждением, бездушной чиновничьей машиной.
Пожалуй, наиболее полно эту точку зрения выразил замечательный писатель Александр Куприн в своем рассказе "Анафема". Сюжет рассказа прост: протодиакон кафедрального собора отец Олимпий на богослужении вынужден провозглашать анафематствование своему любимому писателю Льву Толстому. Читая по требнику XVII века чудовищные проклятия, "которые мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства", протодиакон вспоминает прекрасные строки Толстого, прочитанные накануне ночью, и делает свой выбор - вместо "анафемы" он провозглашает графу Толстому "многая лета".
Протодиакона можно понять. Вот небольшой отрывок из рассказа, где автор описывает процедуру анафематствования Толстого:
"Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафематствовал и отлучил от церкви: ... магометан, богомилов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере..."
"... Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятство, а анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удавление, Симона волхва погибель, ариево тресиовение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не приимет, и да будет часть его в геене вечной и мучен будет день и нощь".
Такие вот ужасные слова в адрес великого писателя. Но не спешите ужасаться. Дело в том, что весь этот кошмар, приписываемый Куприным "узкому уму иноков первых веков христианства", является от начала и до конца его собственным вымыслом. И дело даже не в том, что ну никак не могло появиться в требнике семнадцатого века имя Емельяна Пугачева, который родился и жил в восемнадцатом столетии. И не в том, что, начиная с 1869 года, анафематствование отдельных лиц в России было прекращено вовсе.
Просто ни в одном из многочисленных печатных и рукописных чинов анафематствования, составленных Русской Православной Церковью за несколько веков, нет ничего даже отдаленно похожего на проклятья, которые Куприн извергает на Льва Николаевича от лица Церкви. Все эти жуткие заклинания не более чем плод буйного воображения расцерковленного российского интеллигента начала двадцатого столетия. Ни в одном из храмов Российской империи анафема Толстому не провозглашалась. Все было гораздо менее торжественно и более прозаично: газеты опубликовали Послание Священного Синода. Вот его полный текст:
Божией милостью
Святейший Всероссийский Синод верным чадам православныя кафолическия греко-российския Церкви о Господе радоватися.
Молим вы, братие, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, ему же вы научитеся, и уклонитеся от них (Римл. 16:17).
Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере во Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви Святой, которая пребудет неодоленною вовеки. И в наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь Святая. В своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской; отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице славимого, создателя и промыслителя Вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа - Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает божественное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы, Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отверг себя сам от всякого общения с Церковью Православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем перед всею Церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.
Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2:25). Молимтися, милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.
Подлинное подписали:
Смиренный АНТОНИЙ, митрополит С. -Петербургский и Ладожский.
Смиренный ФЕОГНОСТ, митрополит Киевский и Галицкий.
Смиренный ВЛАДИМИР, митрополит Московский и Коломенский.
Смиренный ИЕРОНИМ, архиепископ Холмский и Варшавский.
Смиренный ИАКОВ, епископ Кишиневский и Хотинский.
Смиренный ИАКОВ, епископ.
Смиренный БОРИС, епископ.
Смиренный МАРКЕЛ, епископ.
Совершенно очевидно, что даже намека на какое-либо проклятие этот документ не содержит.
Русская Православная Церковь просто с горечью констатировала факт: великий русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой перестал быть членом Православной Церкви. Причем отнюдь не в силу определения вынесенного Синодом. Все произошло гораздо раньше. В ответ на возмущенное письмо супруги Льва Николаевича Софьи Андреевны Толстой, написанное ею по поводу публикации определения Синода в газетах, Санкт-Петербургский митрополит Антоний писал:
"Милостивая государыня графиня София Андреевна! Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живого, Искупителя и Спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а от того, что отвратился от Источника жизни вечной".
Сострадание гонимым и сочувствие обиженным - это, конечно, благороднейшие порывы души. Льва Николаевича, безусловно, жалко. Но прежде, чем сочувствовать Толстому, необходимо ответить на один очень важный вопрос: насколько сам Толстой страдал по поводу своего отлучения от Церкви? Ведь сострадать можно только тому, кто страдает. Но воспринял ли Толстой отлучение как некую ощутимую для себя потерю? Тут самое время обратиться к его знаменитому ответу на определение Священного Синода, который был также опубликован во всех русских газетах. Вот некоторые выдержки из этого послания:
"... То, что я отрекся от Церкви называющей себя Православной, это совершенно справедливо.
И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же - собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения.
Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.
То, что я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении первого человека, историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо
Еще сказано: "Не признает загробной жизни и мздовоздаяния". Если разумеют жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями/дьяволами и рая - постоянного блаженства, - совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни...
Сказано также, что я отвергаю все таинства... Это совершенно справедливо, так как все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия..."
Достаточно для того, чтобы стало ясно: по существу дела у Льва Николаевича к определению Синода претензий не было. Были претензии к формальной стороне. Толстой сомневался в каноничности этого определения с точки зрения церковного права. Проще говоря, Лев Николаевич был уязвлен именно тем, что о его отлучении не было громогласно объявлено со всех кафедр Русской Православной Церкви. То есть он жалел о том, что не произошло процедуры, которую описал Куприн в своем рассказе. Его отношение к Определению показывает случай, рассказанный секретарем Толстого, В. Ф. Булгаковым:
"Лев Николаевич, зашедший в "ремингтонную", стал просматривать лежавшую на столе брошюру, его "Ответ Синоду". Когда я вернулся, он спросил:
А что, мне анафему провозглашали?
Кажется, нет.
Почему же нет? Надо было провозглашать... Ведь как будто это нужно?
Возможно, что и провозглашали. Не знаю. А Вы чувствовали это, Лев Николаевич?
Нет, - ответил он и засмеялся".
Не вдаваясь в подробности и оценку религиозных воззрений Льва Толстого, можно, тем не менее, ясно увидеть, что эти воззрения не совпадали с Православным вероучением. Со стороны Церкви он получил всего лишь подтверждение этого различия. Напрашивается такое сравнение: мужчина много лет как оставил свою семью. Живет с другой женщиной. И вот, когда первая жена подала на развод и получила его, этот мужчина начинает возмущаться юридическими огрехами в процедуре развода. По-человечески все понятно - чего в жизни не бывает... Но сочувствовать такому человеку, по меньшей мере, странно.
Толстой страдал не от формального отлучения. До самой смерти он не был окончательно уверен в правильности избранного им пути конфронтации с Церковью. Отсюда и его поездки в Оптину пустынь, и желание поселиться в монастыре, и просьба прислать к нему, умиравшему на станции Астапово, оптинского старца Иосифа (тот болел, и в Астапово послан был другой старец, Варсонофий). И в этой своей раздвоенности Лев Николаевич действительно глубоко несчастен и заслуживает самого искреннего сочувствия. Но бывают в жизни человека ситуации, когда никто на свете не в состоянии ему помочь, кроме него самого. Толстой так и не смог выбраться из той петли, которую всю жизнь сам на себе старательно затягивал.
Александр ТКАЧЕНКО
Определение Святейшего Синода о графе Льве Толстом[править]Материал из Википедии - свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Эта статья входит в тематический блок
Толстовство
Российские сподвижники
П. Бирюков · Бодянский · В. Булгаков · Горбунов-Посадов · Гусев · Наживин · П. Николаев · Сулержицкий · Трегубов · Хилков · Хирьяков · Чертков
Зарубежные последователи
Арисима · Ганди · Ярнефельт · Кросби · Кониси · Мод · Токутоми
Библиография
Воскресение · Исповедь · В чём моя вера · Царство Божие внутри вас
Разное
Зелёная палочка · Определение Синода · Духоборы · Крестьяне-толстовцы
Шаблон: Просмотр Обсуждение Править
Определение и послание Святейшего Правительствующего Синода о графе Льве Толстом от 20 - 22 февраля (ст. ст.) 1901 года - постановление (суждение) Святейшего Правительствующего Синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной церкви, так как его (публично высказываемые) убеждения несовместимы с таким членством.
[править] Предыстория
Иллюстрация к эссе Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» (1887) В последние два десятилетия жизни Л. Н. Толстой, будучи верующим человеком, крещённым в православии, в ряде произведений, особенно в романе «Воскресение» (1899) ясно показал, что не принимает ряд важнейших догматов православной Церкви. Он также распространял брошюры с описанием своего собственного понимания христианства, далёкого от православного (см. статью Толстовство).
Толстой отвергал учение о Троичности Бога, непогрешимый авторитет Вселенских соборов, церковные таинства, непорочное зачатие, действительность воскресения Иисуса Христа и его Божественность. При этом он резко критиковал Церковь за то, что она, по его мнению, свои интересы ставит выше, чем изначальные христианские идеалы. В романе «Воскресение» духовенство было изображено механически и наскоро исполняющим обряды, а в образе холодного и циничного Топорова некоторые стали узнавать К. П. Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода. Хотя цензура не допускала подобные взгляды в открытую печать, они продолжали распространяться и стали широко известны.
Ряд церковных иерархов ещё с конца 1880-х годов обращались к Синоду и к императору Александру III с призывом наказать Льва Толстого и отлучить его от Церкви, однако император отвечал, что «не желает прибавлять к славе Толстого мученического венца». После смерти Александра III (1894) аналогичные призывы стал получать Николай II. Резко осуждал взгляды и проповедь графа святитель Феофан Затворник.
Издатель и редактор церковного журнала «Миссiонерское Обозрѣнiе» В. М. Скворцов возбудил вопрос о «толстовщине» на 3-м всероссийском миссионерском съезде в 1897 году в Казани. Скворцов писал: «По исследовании еретических мудрований гр. Толстого, разбросанных во многих его религиозных трактатах <…>, съезд специалистов миссионерства уже тогда признал толстовское религиозное движение оформившеюся религиозно-социальною сектою, крайне вредною не только в церковном, но и в политическом отношении. »
Когда зимою 1899 года граф серьёзно заболел, Святейший Синод издал секретный циркуляр, в котором признавалось, что тот решительно отпал от общения с Церковью и, по церковным канонам, не может быть в случае смерти погребён по православному обряду, если пред смертью не восстановит общения с нею чрез таинства исповеди и евхаристии.
В опубликованном в 1905 году изложении («извлечении») отчёта Обер-прокурора за 1901 года говорилось: «<…> О фанатизме толстовцев, об их открытых глумлениях над православием, их дерзком кощунстве над святынями, оскорблении религиозных чувств православных сообщают преосвященные всех епархий, заражённых толстовством. Эта секта требует и от пастырей церкви, и от гражданской власти неослабной бдительности, тем более, что её воззрения начинают становиться в последнее время не только достоянием народной православной массы, но и подчинять себе последователей всех других сектантских лжеучений. »
К началу XX века Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, ранее считавший отлучение необходимым, стал противником такого шага, полагая, что в складывающейся внутриполитической ситуации такой акт будет воспринят как правительственная демонстрация, а не как давно ожидаемая верующими мера церковного воздействия.
Митрополит АнтонийИнициатором в данном случае выступил Санкт-Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), который 11 февраля 1901 года направил Обер-прокурору (который не был членом Синода) письмо, в котором заявлял: «Теперь в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования в „Церковных Ведомостях“ синодального суждения о графе Толстом». Победоносцев не стал чинить препятствий и сам написал первоначальный текст синодального Определения; чтобы смягчить тон Определения и чтобы оно имело характер свидетельства о самостоятельном отпадении Толстого от Церкви, в его текст были внесены изменения митрополитом Антонием и другими членами Синода во время заседания 20 - 22 февраля (ст. ст.) 1901 года.
Как и все определения Синода, решение по Толстому предварительно докладывалось обер-прокурором императору; из опубликованного после революции письма Победоносцева от 25 февраля (воскресенье) 1901 года императору Николаю II явствует, что по опубликовании (в тот день) синодального определения Победоносцев получил выговор от царя, ввиду чего просил у него в письме прощения за то, что «не испросил согласия Вашего Величества на самую редакцию послания синода». Победоносцев далее в письме писал Николаю II: «Но что это действие синода произошло без ведома Вашего Величества, в том смею обратиться к памяти Вашего Величества. Для того главным образом я и испрашивал разрешение представляться Вашему Величеству в прошлую пятницу, чтобы доложить о сем предположении синода и объяснить его. Я докладывал, что синод вынужден к сему смутою, происходящею в народе, и многочисленными просьбами о том, чтобы высшая церковная власть сказала своё слово; что послание составляется в кротком и примирительном духе, о чём прилагается забота. <…>».
[править] Определение Синода
Определение Синода в «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» (начало)24 февраля 1901 года в официальном органе Святейшего Правительствующего Синода - журнале «Церковныя Вѣдомости» - было опубликовано Определение с Посланием Святейшего Синода № 557 от 20 - 22 февраля того же года об отпадении графа Льва Толстого от Церкви. На следующий день оно было опубликовано во всех основных газетах России.
Определение Синода гласило: «Святейший Синод в своём попечении о чадах православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать, чрез напечатание в „Церковных Ведомостях“, нижеследующее своё послание: <…>». Посланию предпосылалась цитата из Павлова послания к Римлянам: «Молю вы, братие, блюдитеся от творящих, распри и раздоры, кроме учения, емуже вы научистеся, и уклонитеся от них» (Римл. 16, 17) ; далее оно гласило:
Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть её и поколебать в существенных её основаниях, утверждающихся на вере во Христа, Сына Бога Живаго. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет неодоленною вовеки. И в наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая.
В своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой сущности веры христианской; отвергает личного живаго Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа - Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святаго Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковию православною.
Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем пред всею Церковию к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остаётся без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.
Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2:25). Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.
Определение подписали митрополит Антоний и шесть других высших иерархов. В частном письме Антоний так изложил мотивы публикации:
Я с вами не согласен, что синодальный акт о Толстом может послужить к разрушению Церкви. Я, напротив, думаю, что он послужит к укреплению её… С толстовцами завязалась у нас подпольная полемика. Они бьют нас сатирами и баснями, и у нас нашлись тоже свои сатирики, хотя и не совсем удачные. На этом поприще мы не подготовлены бороться. Война создаст или вызовет таланты. Первоначальный трагизм заменился, пожалуй, комизмом, а победа будет всё же на стороне церкви.
[править] Общественная реакцияОтклики общественности на Определение Синода были разнообразны. Немало писем, полученных Толстым, содержали проклятия, увещевания, призывы покаяться и примириться с церковью, и даже угрозы.
«Лев Толстой в аду». Фрагмент стенной росписи из церкви села Тазова Курской губернии. 1883 г. Особенно резко критиковал Толстого известный протоиерей Иоанн Кронштадтский (1902) :
Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на её правительство!.. Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю… Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения… Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная, праздная с похождениями жизнь в лета юности, как это видно из собственного его описания своей жизни, были главной причиной его радикального безбожия; знакомство с западными безбожниками ещё более помогло ему стать на этот страшный путь, а отлучение его от Церкви Святейшим Синодом озлобило его до крайней степени, оскорбив его графское писательское самолюбие, помрачив ему мирскую славу… о, как ты ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны…
Также 14 июля 1908 года, в преддверии 80-летнего юбилея Толстого, московская газета «Новости дня» опубликовала молитву, по утверждению редакторов, сочиненную Иоанном Кронштадтским:
Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей... .
М. А. Сопоцько, член черносотенного «Союза русского народа» в «Тульских Епархиальных Ведомостях» писал:
Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого.
Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви определением богоучрежденной власти выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо…
Впечатление, получаемое от портрета гр. Толстого, объяснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника диавола), которым усердно послужил во вред человечеству трехокаянный граф .
Известный православный философ В. В. Розанов, не оспаривая Определение Синода по существу, заявил, что Синод, как орган скорее бюрократический, чем религиозный, не имеет права судить Толстого:
Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть, величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искажённый. Но дуб, криво выросший, есть, однако, дуб, и не его судить механически формальному «учреждению»… Акт этот потряс веру русскую более, чем учение Толстого.
Одновременно в адрес Толстого непрерывно шли письма и телеграммы с выражением сочувствия.
Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адресы… Несколько дней продолжается у нас в дому какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера - целые толпы.
Даже 8 апреля в дневнике Льва Толстого сообщается: «Всё продолжаются адресы и приветствия». В Петербурге, Москве, Киеве и др. городах прошли демонстрации, выражавшие солидарность с писателем. Рабочие мальцевских стеклянных заводов подарили Толстому большую стеклянную глыбу со следующей надписью золотыми буквами:
Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокопочтимый Лев Николаевич! И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылках. Пусть отлучают Вас, как хотят фарисеи «первосвященники». Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас великим, дорогим, любимым.
Юрисконсульт кабинета Его Величества Н. А. Лебедев писал:
Прочитал сейчас указ Синода о Толстом. Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева и что это он мстит Толстому... Теперь что же. Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого в России, а теперь будут читать сотни тысяч… По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею. На могилу его будут ходить на поклонение... Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства… Они наряжаются в богатые одежды, упиваются и объедаются, наживают капиталы, будучи монахами, забывают о бедных и нуждающихся... Удалились от народа, построили дворцы, забыли келии, в которых жили Антонии и Феодосии… служат соблазном своим распутством... «Дом мой домом молитвы наречется», они же сделали его вертепом разбойников… Все это горько и прискорбно...
Победоносцев в письме главному редактору «Церковных Ведомостей» протоиерею И. А. Смирнову (22 марта 1901 года) отметил: «Какая туча озлобления поднялась за Послание!.. ». В полицейских архивах обнаружены ссылки на басню «Ослы и Лев» (журнал «Свободная мысль»), студенческий рисунок «Как мыши кота хоронили», копии многих перлюстрированных писем с резкими замечаниями об Определении Синода. Поэт Н. Н. Вентцель написал басню «Голуби-победители», которая широко разошлась по России (известно, что в 1903 году экземпляр басни конфисковали при обыске у А. П. Чехова) .
В Париже был издан в поддержку Толстого публицистический сборник «Перо» (La Plume), в котором о своей солидарности заявили Золя, Метерлинк и многие другие известные литераторы.
В апреле Лев Толстой направил нескольким газетам открытое письмо:
Не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне как лично, так и по почте и по телеграфу своё сочувствие по поводу постановления Св. Синода от 20-22 февраля, покорнейше прошу Вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причём сочувствие, высказанное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления Св. Синода.
Это письмо, впрочем, было немедленно запрещено к печати.
[править] Письмо Софьи АндреевныСофья Андреевна Толстая 26 февраля 1901 года направила по поводу публикации в газетах Определения Синода письмо первенствующему члену Синода Санкт-Петербургскому митрополиту Антонию (Вадковскому) :
Ваше Высокопреосвященство!
Прочитав (вчера) в газетах жестокое определение Синода об отлучении от церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидав в числе подписей пастырей церкви и вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения - никому, кроме Бога, неведома и, к счастью, не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, - которая создана Христом для благословения именем Божьим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских… - которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, - с этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода.
Оно вызовет не сочувствие (разве только «Московских Ведомостей»), а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления, и им не будет конца, со всех концов мира.
Не могу не упомянуть ещё о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича, в случае его смерти.
Кого же хотят наказывать? - умершего, не чувствующего уже ничего, человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему?
Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду - или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели? Но мне этого и не нужно. Для меня церковь есть понятие отвлечённое, и служителями её я признаю только тех, кто истинно понимает значение церкви.
Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон любви Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от неё.
И виновны в грешных отступлениях от церкви не заблудившиеся, ищущие истины люди, а те, которые гордо признали себя во главе её, и, вместо любви, смирения и всепрощения, стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям, жизнь, хотя и вне церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звёзды, но карающих и отлучающих от церкви - пастырей её.
Опровергнуть мои слова лицемерными доводами - легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей - никого не обманет.
Графиня София Толстая.
Письмо графини вызвало большой общественный резонанс и было перепечатано во многих русских и зарубежных газетах. В своём дневнике Софья Андреевна не без гордости отметила: «Никакая рукопись Л. Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это моё письмо». Митрополит Антоний вскоре написал ей ответ; оба текста были опубликованы 24 марта 1901 года в «Церковных Ведомостях»:
Милостивая государыня, графиня София Андреевна!
Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живого, Искупителя и Спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а от того, что отвратился от Источника жизни вечной.
Для христианина не мыслима жизнь без Христа, по словам Которого «верующий в Него имеет жизнь вечную, и переходит от смерти в жизнь, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём» (Иоанн III, 1. 16.36У, 24), и поэтому об отрекающемся от Христа одно только и можно сказать, что он перешёл от жизни в смерть. В этом и состоит гибель вашего мужа, но в этой гибели повинен только он сам один, а не кто-либо другой.
Из верующих во Христа состоит Церковь, к которой вы себя считаете принадлежащей, и - для верующих, для членов своих Церковь эта благословляет именем Божиим все значительнейшие моменты человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских, но никогда не делает она этого и не может делать для неверующих, для язычников, для хулящих имя Божие, для отрекшихся от неё и не желающих получить от неё ни молитв, ни благословений, и вообще для всех тех, которые не суть члены её. И потому с точки зрения этой Церкви распоряжение Синода постижимо, понятно и ясно, как Божий день. И закон любви и всепрощения этим ничуть не нарушается. Любовь Божия бесконечна, но и Она прощает не всех и не за всё. Хула на Духа Святого не прощается ни в сей, ни в будущей жизни (Матф. XII, 32). Господь всегда ищет человека своею любовью, но человек иногда не хочет идти навстречу этой любви и бежит от Лица Божия, а потому и погибает. Христос молился на кресте за врагов Своих, но и Он в Своей первосвященнической молитве изрек горькое для любви Его слово, что погиб сын погибельный (Иоанн, XVII, 12). О вашем муже, пока жив он, нельзя ещё сказать, что он погиб, но совершенная правда сказана о нём, что он от Церкви отпал и не состоит её членом, пока не покается и не воссоединится с нею.
В своем послании, говоря об этом, Синод засвидетельствовал лишь существующий факт, и потому негодовать на него могут только те, которые не разумеют, что творят. Вы получаете выражения сочувствия от всего мира. Не удивляюсь сему, но думаю, что утешаться вам тут нечем. Есть слава человеческая и есть слава Божия. «Слава человеческая как цвет на траве: засохла, трава, и цвет её опал, но слово Господне пребывает вовек» (I Петра 1 , 24, 25).
Когда в прошлом году газеты разнесли весть о болезни графа, то для священнослужителей во всей силе встал вопрос: следует ли его, отпавшего от веры и Церкви, удостаивать христианского погребения и молитв? Последовали обращения к Синоду, и он в руководство священнослужителям секретно дал и мог дать только один ответ: не следует, если умрет, не восстановив своего общения с Церковию. Никому тут никакой угрозы нет, и иного ответа быть не могло. И я не думаю, чтобы нашёлся какой-нибудь, даже не порядочный, священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем вашим? Ведь без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения? Раз вы - живой человек - хотите считать себя членом Церкви, и она действительно есть союз живых разумных существ во имя Бога живого, то уж падает само собою ваше заявление, что Церковь для вас есть понятие отвлечённое. И напрасно вы упрекаете служителей Церкви в злобе и нарушении высшего закона любви, Христом заповеданной. В синодальном акте нарушения этого закона нет. Это, напротив, есть акт любви, акт призыва мужа вашего к возврату в Церковь и верующих к молитве о нём.
Пастырей Церкви поставляет Господь, а не сами они гордо, как вы говорите, признали себя во главе её. Носят они бриллиантовые митры и звезды, но это в их служении совсем не существенное. Оставались они пастырями, одеваясь и в рубище, гонимые и преследуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы и в рубище пришлось им опять одеться, как бы их ни хулили и какими бы презрительными словами ни обзывали.
В заключение прошу прощения, что не сразу вам ответил. Я ожидал, пока пройдёт первый острый порыв вашего огорчения.
Благослови вас Господь и храни, и графа - мужа вашего - помилуй!
В дневнике Софьи Андреевны от 27 марта содержится её впечатление от ответа митрополита: «Он меня совсем не тронул. Всё правильно и всё бездушно. »
[править] Ответ Льва Толстого
И. Я. Репин. Лев Толстой в 1901 г. В апреле 1901 года Л. Н. Толстой откликнулся на Определение Синода, см. полный текст письма. В начале этого письма он критикует постановление:
Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне Синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты - одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самоё постановление, указав на то, что в нём несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов. Постановление Синода вообще имеет много недостатков: оно незаконно или умышленно-двусмысленно, оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.
Оно незаконно или умышленно-двусмысленно - потому, что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и её догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что собственно и случилось, потому что оно так и было понято. <…> Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. <…> Так что постановление Синода вообще очень нехорошо. То, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, так уверены в своей правоте, что молятся о том, чтобы Бог сделал меня для моего блага таким же, каковы они, не делает его лучше.
То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте Церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически - я перечитал всё, что мог, об учении Церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же - строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям Церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же - собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. <…>
То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же - духа, Бога - любовь, единого Бога - начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении.
Ещё сказано: «Не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния». Если разуметь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая - постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.
Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведённых вижу прямое нарушение и смысла, и буквы евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением. В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приёмы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф.23:8-10).
Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, «ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств - Евхаристию». То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовлений этого, так называемого, таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, - это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку-перегородкой, а не иконостасом, и чашку - чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное кощунство - в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, - уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съел этот кусочек, в того войдёт Сам Бог.
- Как правильно приготовить чай с корицей для похудения Как пить корицу с чаем
- Минимальный размер оплаты труда (мрот)
- Должностная инструкция повара школьной столовой
- Расписка о получении трудовой книжки на руки избавит работодателя от проблем Расписка при увольнении о выдаче всех справок
- Должностная инструкция ученика электромонтера
- Диапазоны певческих голосов
- Игры эмили Игры для девочек семья эмили дом мечты
- Афродита — Греческая богиня любви и красоты
- Адам в поисках евы - блог алексея лебедева
- Уроки немецкого: Немецкий алфавит
- Полные уроки — Гипермаркет знаний
- Гороскоп на конец февраля скорпион
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?
- Новый год огненного петуха гороскоп
- Любовный гороскоп на июль женщина скорпион
- Чем заменить колбасу при правильном питании Мясо запеченное в духовке на бутерброды
- Салат с сосисками и кукурузой
- Что лучше на завтрак годовалому ребенку
- Что приготовить на завтрак ребенку в год и старше: рецепты быстрых и вкусных блюд