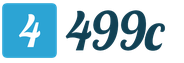Джек лондон - морской волк. Рассказы рыбачьего патруля Лучшая рецензия на книгу
Роман «Морской Волк» - одно из самых известных «морских» произведений американского писателя Джека Лондона . За внешними чертами приключенческой романтики в романе «Морской Волк» скрывается критика воинствующего индивидуализма «сильного человека», его презрения к людям, основанного на слепой вере в себя как в исключительную личность - вере, которая может стоить порой жизни.
Роман «Морской Волк» Джека Лондона был издан в 1904 году. Действие романа «Морской Волк» происходит в конце XIX - начале XX века в Тихом океане. Хэмфри Ван-Вейден, житель Сан-Франциско, известный литературный критик, отправляется проведать своего друга на пароме через залив Золотые Ворота и попадает в кораблекрушение. Спасают его моряки судка «Призрак» во главе с капитаном, которого все на борту зовут Волк Ларсен.
По сюжету романа «Морской Волк» главный герой Волк Ларсен на небольшой шхуне с командой в 22 человека отправляется заготавливать шкуры морских котиков на север Тихого океана и забирает с собой Ван-Вейдена, несмотря на его отчаянные протесты. Капитан судна Волк Ларсон – человек жесткий, сильный, бескомпромиссный. Став простым матросом на судне, Ван-Вейдену приходится делать всю черновую работу, но справится со всеми нелегкими испытаниями, ему помогает любовь в лице девушки, которую тоже спасли во время кораблекрушения. На судне подчиняются физической силе и авторитете Волка Ларсена, так за любой проступок капитан немедленно жестоко наказывает. Однако Ван-Вейдену капитан благоволит, начав с помощника кока, «Хэмп» как его прозвал Волк Ларсен, делает карьеру до должности старшего помощника капитана, хотя и поначалу ничего не смыслит в морском деле. Волк Ларсен и Ван-Вейден находят общий язык в области литературы и философии, которые им не чужды, и капитан имеет на борту небольшую библиотеку, где Ван-Вейден обнаружил Браунинга и Суинбёрна. А в свободное время Волк Ласрен оптимизирует навигационные расчеты.
Экипаж «Призрака» преследует морских котиков и подбирает еще одну компанию потерпевших бедствие и в их числе женщину - поэтессу Мод Брустер. С первого же взгляда герой романа «Морской Волк» Хемфри испытывает влечение к Мод. Они решают бежать с «Призрака» . Захватив шлюпку с небольшим запасом продовольствия, они бегут, и через несколько недель скитаний по океану находят сушу и высаживаются на небольшом островке, который они назвали Остров Усилий. Так как покинуть остров у них нет возможности, они готовятся к долгой зимовке.
К острову Усилий волнами прибивает разбитую шхуну «Призрак», на борту которой оказывается Волк Ларсен, ослепший из-за прогрессирующей болезни головного мозга. По рассказу Волка его команда взбунтовалась против произвола капитана и сбежала на другое судно к смертельному врагу Волка Ларсена его брату по имени Смерть Ларсен, так «Призрак» со сломанными мачтами дрейфовал в океане, пока его не прибило к Острову Усилий. Волею судеб именно на этом острове ослепший капитан Волк Ларсен обнаруживает лежбище котиков, которое он искал всю жизнь. Мод и Хэмфри ценой невероятных усилий приводят Призрак в порядок и выводят его в открытое море. Волк Ларсен, у которого последовательно отказывают вслед за зрением все чувства, парализован и умирает. В тот момент, когда Мод и Хэмфри наконец обнаруживают в океане спасительное судно, они признаются друг другу в любви.
В романе «Морской Волк» Джек Лондон демонстрирует совершенное знание морского дела, навигации и парусного такелажа, которые он почерпнул в те времена, когда он в молодости работал матросом на промысловом судне. В роман «Морской Волк» Джек Лондон вложил всю свою любовь к морской стихии. Его пейзажи в романе «Морской Волк» поражают читателя мастерством их описания, а также правдивостью и великолепием.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Не знаю, право, с чего начать, хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю
вину на Чарли Фэрасета. У него была дача в Милл-Вэлли, под сенью горы
Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и
почитать на досуге Ницше или Шопенгауэра. С наступлением лета он предпочитал
изнывать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня
привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не
пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро.
Нельзя сказать, чтобы "Мартинес", на котором я плыл, был ненадежным
судном; этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на
переправе между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом
тумане, окутавшем бухту, но я, ничего не смысля в мореходстве, и не
догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на
носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и таинственность
нависшей над морем туманной пелены мало-помалу завладела моим воображением.
Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы -- впрочем, и
не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то,
по-видимому, капитана, в застекленной рубке у меня над головой.
Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение
труда и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если
хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют
специалисты -- рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания
служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании не больше моего.
Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу
сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например -- на роли
Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была
посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере "Атлантика".
Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил,
что номер "Атлантика" в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как
раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда:
специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену
возможность -- в то время как его благополучно переправляют на пароходе из
Саусалито в Сан-Франциско -- ознакомиться с плодами моих специальных знаний
о По.
У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек
затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно
наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать "Необходимость
свободы. Слово в защиту художника". Краснолицый бросил взгляд на рулевую
рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе
-- очевидно, у него были протезы -- и остановился возле меня, широко
расставив ноги; на лице его было написано блаженство.
Давно подбираюсь к рецензии на этот роман. Подбираюсь-подбираюсь и все никак не решусь. Ну... На мое имхо. Этот роман - про воспитание. Отец и сын. Про "отделку щенка под капитана".
Неудачную.Заметили, нет - капитан Ларсен все время спрашивает Хэмпа? Покажи, расскажи, докажи. Убеди, что то, во что веришь - истина, и дела твои правильны. А Хэмп убедить не может. У него не то что дела не совпадают со словами. У него даже слов собственных нет. Все заемные... "Мы выбили бред брошюр и газет, и книг, и вздорный сквозняк, И уйму краденых душ, но его души не найдем никак! Мы катали его, мы мотали его, мы пытали его огнем, И, если как надо был сделан досмотр, душа не находится в нем!" Что, собственно, нравится капитану Ларсену из его обширного безпорядочного чтива? Библия и Киплинг. Не такой плохой выбор. Весьма, я бы сказала, со вкусом. Омар Хайам, которого он понимает глубже и лучше, чем литературный критик Хэмп. Вписался бы Ларсен в интеллектуальную компанию? Да. Он умеет мыслить, умеет понимать, умеет выразить свои мысли... и даже почти владеет сократическим диалогом. Нужно только поднабрать "багажа". Начитать объем текстов и расширить словарь. А что, собственно, нравится Хэмпу в морской жизни? Что он, собственно, вообще способен в ней заметить, чтобы должным образом оценить? Мастерство судовождения, виртуозное мастерство капитана Ларсена? Ага, щаззз... Прекрасные мореходные качества корабля... чтобы насладиться ими, человек понимающий готов рискнуть жизнью? Нну... Спокойное мужество матросов - "моряк спит, отгородившись от смерти полудюймовой доской"? Нет же... Все грубое, все грязное, все жесткое, все животные, отпустите меня, я хочу к маме... Способен ли Хэмп вписаться в общество "людей действия"? И изменил ли Хэмпа этот морской поход? На мое имхо, нет. Вот ни капельки. Как было в нем вначале "отчаянное мужество труса", так оно и осталось с ним до самого конца книги. Как он жил чужим умом и был движим чужим влиянием, так до самого конца и нуждается в чужой воле, чтобы совершать какие-то действия. Сначала Чарли Фэрасет, потом капитан Ларсен, потом Мод Брустер. Не будь ее, он послушно, как мягкий пластилин, принял бы то, что лепил из него капитан. А если его не подталкивают извне, он любое дело готов бросить на любой стадии. Променять цивилизацию на мирок котикобоя, остаться навсегда на необитаемом острове, бросить мачты в океане... И как он стоял в начале романа, выражаясь словами капитана Ларсена, "на ногах мертвецов", так он это делает и в конце. Судно-то он ведет при помощи изобретения покойного капитана. Разве что "поднабрал багажа" - физически окреп и ремеслу обучился. Но для катарсиса этого маловато все же. И он не понимает, не понимает, не понимает капитана Ларсена. ...А капитан его насквозь видит. Видит и... разочаровывается. Вот он проверяет (провокацией, все время устраивает "ходовые испытания", проверку делом) - кто он сам по себе, этот джентльмен, ради которого капитан Ларсен рискнул судном, остановив и развернув его в сложной обстановке, в тумане, в столпотворении других судов, в узости Золотых ворот и против отлива, который в них, как было сказано, "рвется"? Не так чтобы просто было этого Хэмпа с воды подобрать... И насколько не вяжется с постоянным хэмповым рефреном "чудовище" этот поступок капитана Ларсена в отношении него самого... На минуточку, тогда на борту был полный комплект экипажа и в качестве "пары рук на замену" Хэмп никоим образом не требовался. Наоборот - представлял собой "лишний рот" для не особенно безграничных корабельных запасов. Это чистый альтруизм - то, что его спасли. Ну, может, еще и желание капитана противопоставить свою волю силам природы и выиграть у них этот раунд... И кого подобрал он? Трусишку? Нервную крысу? Похоже, что так. Но, может, хотя бы умную крысу? С которой есть о чем поговорить? Ах... не особенно-то и умную. Интерпретации Хэмпа никак не меняют мировоззрения капитана Ларсена. Ничем тот его не поражает. Разве что стал использовать в качестве ходячего сборника цитат. Этакой хрестоматии. Цитировать Хэмп годен, а интерпретировать - нет. Но, может, годен хотя бы чувствовать - не только голод и злость, но красоту? Ребята, у меня слеза навернулась от сочетания стихов Киплинга и судна в океане... а Хэмп "удивился". И все. И тут - мимо...
"...мне предоставь насладиться Охотой на ближних моих. Да, слежкой за душами, травлей людей, Охотой на ближних моих". Следить за человеческой душой и менять человеческую душу - увлекательнее, чем практически в одиночку (с такой жалкой подмогой, как Хэмп и Магридж) противостоять урагану. С чего капитан Ларсен так интенсивно "докапывается" к Хэмпу? Может, это такое своеобразное преломление потребности в отцовстве. А может - попытка "найти своих". А может - выковать для интеллекта годную физическую оболочку... так же, как сам Ларсен годами ковал для своей физической формы достойное ее умственное содержание. А может, все сразу. Из текста это никак не понятно, поэтому оставляю как домысел - за скобками. Но что роман про воспитание - видно же? А чем меняют... как растят мужчину? Делом. Властью. И женщиной. ...Делом Хэмп "плюс-минус" овладел. С подачи и под понукания капитана Ларсена. Властью он наделен с того же барского плеча... и власти он не умеет, не знает, не хочет. А женщина... Очень удачно подвернулась Мод Брустер, и капитан Ларсен использует ее в своей переделке Хэмпа. Что, сама она как таковая разве ему нужна? В каком месте он ее "любит"? Или хотя бы "хочет"? Он ею дразнит. Напоказ. "Отберу! Загрызу! И съем)))!" Объект его интереса и точка его приложения сил - Хэмп. ...Вообще непонятно, откуда Хэмп взял, что "любовный огонь, обжигающий и властный" в глазах капитана "притягивал и покорял женщин, заставляя их сдаваться восторженно, радостно и самозабвенно"? То, что мы видим - мужское братство. Без баб, даже без разговоров о бабах. Без жен, без детей. Те любовные успехи капитана Ларсена, о которых мы знаем - похищение двух японок, совершенное против их воли и на короткий срок... и ужас и отвращение Мод Брустер. Хорош властный любовный огонь))). ...Да ему, похоже, и не надо этого... С точки зрения капитана Ларсена, как мне показалось, быть мужчиной - значит быть готовым драться за свое место под солнцем и убить того, кто покушается убить тебя. ...Только того, кто покушается убить тебя. ...Но такого уж - без раздумий. ...Этот самый юнга Лич, которого жалко - первый начал охоту за капитаном. Его просто побили. А он стал убивать. Упорно и не единожды. А кто заметил, что эта парочка, Лич и Джонсон, убили помощника? Все равно гад был, туда и дорога, его не жалко, с точки зрения Хэмпа? Лича жалко, а Иогансена нет... А тоже был утоплен ведь... А почему Лич сменил фамилию и возраст, от чего сбежал в море - не от виселицы ли за преступление, совершенное на берегу? Закон этой стаи - убей того, кто покушается на тебя. Или он таки убьет тебя. Они, эти ребята, такие до Ларсена и помимо Ларсена. ...Но, с точки зрения Хэмпа, только Ларсен в этом виноват... Так вот, как мне кажется, с позиции этого вот мировоззрения Ларсен и пытается сделать из Хэмпа мужчину. Такого же мужчину, как сам. И у него это не получается. Каждый остался при своем. В этом твердокаменном столкновении двух мировоззрений ни один не сумел переубедить другого. И в то же время ни один не сумел внятно сформулировать, почему его точка зрения - верная. ...Литераторы и интеллектуалы Мод и Хэмп благополучно про...бояли свой шанс исследовать неизвестную им сторону бытия и пополнить свои творческие запасы уникальными человеческими типами. Все, на что эти творческие люди оказались способны - подойти к новому явлению со старой меркой. Похож ли капитан Ларсен на уже известное им? И, увидев, что не похож, испугались и убежали. Ларсен в этом смысле - внутри романа - не только "один из этих семян", но и "камень, отринутый строителями". На наше читательское счастье, роман не автобиографичен, а Джек Лондон - не Хэмп. ...Хотя иной раз мне и казалось, что 28-летний автор не справился с материалом... ...Попросту испугался накала сюжета. Тех драматических поворотов, в которые он бы оказался втянут, если бы позволил героям раскрыться в полную силу. Без "Deus ex machina". Без искусственного "пригашивания" капитана Ларсена неизвестно откуда появившейся болезнью и искусственной "накачки" Хэмпа неизвестно откуда появившейся любовью. ...Потенциал истории был бы, на мое имхо - или попытка капитана Ларсена сломать существующие общественные отношения... или его окончательное разочарование в том, во что он со всей своей силой себя "впихивал" с отрочества... и книги - тлен, и интеллектуалы - ничтожества... отказ от своих идеалов - и от части своей личности... и страсти там могли развернуться поистине шекспировские. Ну куда в 28 лет браться за описание душевных потрясений персонажа, который старше тебя, опытнее и во всех смыслах сильнее... ...Рассказ "Северная одиссея" - потом "Морской волк" - потом "Мартин Иден". Не повороты той же темы с разных ракурсов?..
Что до демонстративного "неверия" капитана Ларсена. Можно ли считать, что человек, который цитирует Библию применительно к себе - одновременно отрицает Бога и религиозные постулаты? Как можно сказать о себе "я один из этих семян", если не воспринимать всерьез Евангелие? И разве не логично было бы для атеиста, жизнь которого только "здесь", а ценность жизни - только в качестве "закваски", в данной ситуации закончить суицидом? Это же только христианин смиренно терпит то, что Бог ему пошлет? Слепоту, постепенный паралич, угасание без надежды?.. Но разве такой "жалкий червь, как Хэмп", достоин, чтобы Ларсен перед ним обнажал свою душу... разве он достоин серьезного разговора на такую интимную тему? Если в спорах о социологии и литературе Хэмп не может оценить ход мысли оппонента, не может подобрать аргументы, чего хорошего можно ждать от него в обсуждении метафизики? Так и останется перед Хэмпом... и перед нами... в этом смысле ирония и маска.
Вот как-то так.
И еще немножко Киплинга. "And make a place for Reuben Paine that knows the fight was fair, And leave the two that did the wrong to talk it over there!" ...Но что мы имеем, если один "честно дрался и зарыт в береговом песке", а второй уехал живым и здоровым?...
Рецензия в рамках игры "Мужчина и женщина".
Очень кратко: Охотничья шхуна во главе с умным жестоким капитаном подбирает тонущего после кораблекрушения литератора. Герой проходит череду испытаний, закалив при этом дух, но не растеряв по пути гуманность.
Литературный критик Гэмфри ван Вейден (роман написан от его лица) терпит кораблекрушение по пути в Сан-Франциско. Тонущего подбирает судно «Призрак», направляющееся в Японию для охоты на котиков.
На глазах Гэмфри умирает штурман: перед отплытием он сильно закутил, его так и не смогли привести в чувство. Капитан корабля, Вольф Ларсен, остаётся без помощника. Он приказывает выбросить тело умершего за борт. Слова из Библии, необходимые для погребения, он предпочитает заменить фразой: «И останки будут опущены в воду».
Лицо капитана производит впечатление «ужасной, сокрушающей умственной или духовной силы». Он предлагает ван Вейдену, изнеженному джентльмену, живущему за счёт состояния семьи, стать юнгой. Наблюдая за расправой капитана с молодым юнгой Джорджем Личем, который отказывался перейти в ранг матроса, Гэмфри, не привыкший к грубой силе, подчиняется Ларсену.
Ван Вейден получает прозвище Горб и работает на камбузе с коком Томасом Мэгриджем. Ранее заискивавший перед Гэмфри кок теперь груб и жесток. За свои промахи или неподчинение весь экипаж получает побои от Ларсена, достаётся и Гэмфри.
Вскоре ван Вейден раскрывает капитана с другой стороны: Ларсен читает книги - он занимается самообразованием. Между ними часто проходят беседы о праве, этике и бессмертии души, в которое верует Гэмфри, но которое отрицает Ларсен. Последний считает жизнь борьбой, «сильные пожирают слабых, чтобы сохранять свою силу».
За особое внимание Ларсена к Гэмфри кок злится ещё больше. Он постоянно точит на юнгу нож на камбузе, пытаясь запугать ван Вейдена. Тот признаётся Ларсену, что боится, на что капитан с насмешкой замечает: «Как же так, ...ведь вы будете жить вечно? Вы - бог, а бога нельзя убить». Тогда Гэмфри одалживает нож у матроса и тоже принимается демонстративно точить его. Мэгридж предлагает мировую и с тех пор ведёт себя с критиком ещё более подобострастно, чем с капитаном.
В присутствии ван Вейдена капитан и новый штурман избивают гордого матроса Джонсона за его прямолинейность и нежелание покоряться зверским прихотям Ларсена. Лич перевязывает раны Джонсона и при всех называет Вольфа убийцей и трусом. Экипаж испуган его смелостью, Гэмфри же восхищён Личем.
Вскоре ночью исчезает штурман. Гэмфри видит, как из-за борта на судно влезает Ларсен с окровавленным лицом. Он идёт на бак, где спят матросы, чтобы найти виновного. Вдруг они нападают на Ларсена. После многочисленных побоев ему удаётся уйти от матросов.
Капитан назначает штурманом Гэмфри. Теперь все должны звать его «мистер ван Вейден». Он успешно пользуется советами матросов.
Отношения между Личем и Ларсеном обостряются всё больше. Капитан считает Гэмфри трусом: его мораль на стороне благородных Джонсона и Лича, но вместо того, чтобы помочь им убить Ларсена, он остаётся в стороне.
Лодки с «Призрака» уходят в море. Погода резко меняется и разражается буря. Благодаря морскому мастерству Вольфа Ларсена удаётся спасти и вернуть на корабль почти все лодки.
Внезапно исчезают Лич и Джонсон. Ларсен хочет найти их, но вместо беглецов экипаж замечает лодку с пятью пассажирами. Среди них есть женщина.
Неожиданно в море замечают Джонсона и Лича. Поражённый ван Вейден обещает Ларсену убить его, если капитан вновь начнёт истязать матросов. Вольф Ларсен обещает не трогать их и пальцем. Погода ухудшается, капитан же играет с ними, пока Лич и Джонсон отчаянно борются со стихией. Наконец их переворачивает волной.
Спасённая женщина сама зарабатывает себе на жизнь, что восхищает Ларсена. Гэмфри узнаёт в ней писательницу Мод Брюстер, она же догадывается, что ван Вейден - критик, лестно рецензировавший её сочинения.
Новой жертвой Ларсена становится Мэгридж. Кока привязывают к верёвке и окунают в море. Акула откусывает ему стопу. Мод упрекает Гэмфри в бездействии: он даже не пытался помешать издевательству над коком. Но штурман поясняет, что в этом плавучем мирке нет права, чтобы выжить, не нужно спорить с чудовищем-капитаном.
Мод - «хрупкое, эфирное создание, стройное, с гибкими движениями». У неё правильный овал лица, каштановые волосы и выразительные карие глаза. Наблюдая за её беседой с капитаном, Гэмфри улавливает тёплый блеск в глазах Ларсена. Теперь Ван Вейден понимает, как мисс Брюстер дорога ему.
«Призрак» встречается в море с «Македонией» - судном брата Вольфа, Смерть-Ларсена. Брат проводит манёвр и оставляется охотников «Призрака» без добычи. Ларсен реализует хитрый план мести и забирает матросов брата на своё судно. «Македония» бросается в погоню, но «Призрак» скрывается в тумане.
Вечером Гэмфри видит бьющуюся в объятиях капитана Мод. Внезапно он отпускает её: у Ларсена приступ головной боли. Гэмфри хочет убить капитана, но мисс Брюстер останавливает его. Ночью вдвоём они покидают корабль.
Через несколько дней Гэмфри и Мод добираются до Острова Усилий. Людей там нет, только лежбище котиков. Беглецы стоят хижины на острове - придётся здесь зимовать, на лодке им не добраться до берега.
Однажды утром ван Вейден обнаруживает возле берега «Призрак». На нём только капитан. Гэмфри не решается убить Вольфа: мораль сильнее его. Весь его экипаж переманил к себе Смерть-Ларсен, предложив бо́льшую плату. Вскоре ван Вейден понимает, что Ларсен ослеп.
Гэмфри и Мод решают восстановить сломанные мачты, чтобы уплыть с острова. Но Ларсен против: он не позволит им хозяйничать на своём корабле. Мод и Гэмфри работают целый день, но за ночь Вольф всё уничтожает. Они продолжают восстановительные работы. Капитан делает попытку убить Гэмфри, но Мод спасает его, ударив Ларсена дубинкой. С ним случается припадок, сначала отнимается правая, а потом левая сторона.
«Призрак» отправляется в путь. Вольф Ларсен умирает. Ван Вейден отправляет его тело в море словами: «И останки будут опущены в воду».
Появляется американское таможенное судно: Мод и Гэмфри спасены. В этот момент они объясняются друг другу в любви.
Глава I
Не знаю, как и с чего начать. Иногда, в шутку, обвиняю во всем случившемся Чарли Фэрасета. В долине Милл, под сенью горы Тамальпай, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. А летом он предпочитал выпариваться в пыльной духоте города, надрываясь от работы.
Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро январского понедельника не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско.
И не потому это произошло, что я сел на плохое судно; нет, «Мартинес» был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я как сухопутный житель мало знал.
Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе, у лоцманской рубки , и как туман захватил мое воображение своей таинственностью.
Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле, впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана, в стеклянном домике над моей головой.
Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшем ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. «Хорошо, что люди разделяются по специальностям», – думал я в полудремоте. Познания лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном, например, на анализе вопроса: какое место занимает писатель Эдгар По в американской литературе? – кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик».
Когда, садясь на пароход, я проходил через каюту, с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда: специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саусалито в Сан-Франциско, знакомиться с моими специальными познаниями о писателе По.
Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления, и я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи под названием: «Необходимость свободы. Слово в защиту художника».
Краснолицый человек бросил взгляд на будку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая, взад и вперед по палубе (у него были, по-видимому, искусственные конечности) и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море.
– Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени, – сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке.
– А я не думал, что тут требуется особое напряжение, – ответил я, – кажется, дело просто как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно, как математика.
– Направление! – возразил он. – Просто, как дважды два; точно, как математика! – Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор.
– А что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через Золотые Ворота? Знакома ли вам сила отлива? – спросил он. – Поглядите, как быстро относит шхуну. Слышите, как звонит буй , а мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс.
Из тумана несся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивал штурвал . Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов.
– Это, должно быть, пассажирский, – сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа. – А там, слышите? Это говорят в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны. Да, я так и думал! Эй вы, на шхуне! Глядите в оба! Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них.
Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом.
– А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись, – продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились.
Его лицо сияло и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен.
– А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Это паровая шхуна, насколько я могу судить, ползет против течения.
Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на «Мартинесе». Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли и потом начались вновь. Взвизгивающий свисток, как чириканье сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее.
Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение.
– Это один из дьявольски отчаянных баркасов, – сказал он. – Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От таких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост и в гриву. Отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтоб его сторонились. Сам-то не может уберечь себя. А вы должны смотреть в оба. Уйди с дороги! Это самое элементарное приличие. А они этого как раз и не знают.
Меня развеселил его непонятный гнев, и, пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он действительно был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны, – туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, проносились через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны, слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в беспечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну.
– Алло! Кто-то пересекает нам путь, – говорил он. – Вы слышите? Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще не слышит нас. Относит ветром.
Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас.
– Пассажирский? – спросил я.
– Не очень-то хочется ему щелкнуться! – Он насмешливо хмыкнул. – И у нас закопошились.
Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности.
Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собою с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана . Я увидел лоцманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар. Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал:
– Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело!
Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений.
– Ухватитесь за что-нибудь и повисните, – обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием.
– Прислушайтесь, как закричат женщины, – продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие.
Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего: чужой пароход исчез из круга моего зрения. «Мартинес» круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Я был отброшен навзничь на мокрую палубу и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неописуемые, леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.
Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор.
Зубчатые края дыры, образовавшейся в боку каюты, сквозь которую вертящимися клубами врывался серый туман; опустевшие мягкие сиденья, на которых валялись доказательства внезапного бегства: пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки; полный господин, читавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность; краснолицый пассажир, храбро ковыляющий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходящих мимо, и, наконец, бедлам воющих от отчаяния женщин.
Вопль женщин больше всего действовал мне на нервы. То же, по-видимому, угнетало и краснолицего пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричит, как хор погибших душ; и краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками, поднятыми над головой, точно он собирался бросать громовые стрелы, кричит:
– Замолчите! Перестаньте же, наконец!
Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой; эти женщины, полные страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки, как мать, как сестры.
И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили.
Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я почувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам, стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались. Все было в неисправности. Удалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь; перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастья, не было видно: я слышал, как говорили, что он, во всяком случае, должен выслать за нами свои лодки.
Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же, в воде, умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня, и я, с целым потоком других тел, бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю, хотя и понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня был вкус соли, и что-то сжимало мне горло и грудь.
Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня; многие шли ко дну. Я слышал, как они взывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой пароход все-таки спустил свои шлюпки. Время шло, и я изумлялся тому, что я все еще жив. В нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него.
Мелкие волны со злобно пенившимися гребешками перекатывались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний, полный отчаяния вопль толпы вдали: теперь я знал, что «Мартинес» пошел ко дну. Позже – насколько позже, не знаю – я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе, объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве, и такой страх я теперь испытывал. Куда несло меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через Золотые Ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл? Разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делаются иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мною овладело безумие: я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками.
Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывал из тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса, один над другим, туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него, с безумной решимостью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и безжизненны. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз.
Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоящего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время как он медленно поворачивал голову и смотрел поверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд – так смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе.
Но в этом взгляде были для меня жизнь и смерть. Я видел, что корабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону, видел, как его взгляд упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью, и я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально вгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая какую-то команду. Мне показалось, что судно изменило направление, скрываясь в тумане.
Я чувствовал, что теряю сознание, и попытался напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться темному забытью, обволакивавшему меня. Немного спустя я расслышал удары весел по воде, раздававшиеся ближе и ближе, и чьи-то восклицания. А потом совсем близко я услышал, как кто-то закричал: «Да какого же черта вы не откликаетесь?» Я понял, что это относится ко мне, но забытье и мрак поглотили меня.
Глава II
Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звезды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне, – я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух, так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем-гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже.
– Ну, ладно, Ионсон, – сказал один из мужчин. – Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена?
Человек, которого назвали Ионсоном, мужчина тяжелого скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был, очевидно, истым лондонцем, настоящим «кокней», с миловидными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов церкви Bow . Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание.
– Как вы чувствуете себя, сэр, теперь? – спросил он с искательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай.
Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Ионсона попытался встать на ноги. Громыхание и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни, – должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы, – я прошел мимо ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик.
Повар ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку.
– Вот, сэр, – сказал он, – это будет вам на пользу.
В кружке была тошнотворная смесь – корабельный кофе, – но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточившую грудь, затем обратился к скандинавцу:
– Спасибо вам, мистер Ионсон, – сказал я, – но не находите ли вы, что ваши меры были несколько героичны?
Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твердых мозолях. Я провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость.
– Мое имя Джонсон, а не Ионсон, – сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором, английском языке, с еле слышным акцентом.
В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светились прямодушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу.
– Благодарю вас, мистер Джонсон, – поправился я и протянул руку для пожатия.
Он поколебался, неловкий и застенчивый, переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку.
– Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть? – обратился я к повару.
– Найдется, – ответил он с веселой живостью. – Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданом, если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи.
Он выскочил из двери кухни или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью: он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны.
– Где я? – спросил я Джонсона, которого правильно счел за матроса. – Что это за судно, и куда оно идет?
– Мы отошли от Фараллонских островов, идем приблизительно на юго-запад, – ответил он медленно и методически, как будто нащупывая выражения на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов. – Шхуна «Призрак» идет за котиками в сторону Японии.
– А кто капитан? Я должен повидаться с ним, как только переоденусь.
Джонсон смутился и принял озабоченный вид. Он не решился отвечать до тех пор, пока не справился со своим словарем и не составил в уме полного ответа.
– Капитан – Волк Ларсен, так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но вы разговаривайте с ним поласковее. Не в себе он сегодня. Его помощник…
Но он не окончил. В кухню, точно на коньках, скользнул повар.
– Не убраться ли тебе отсюда поскорее, Ионсон, – сказал он. – Пожалуй, хватится тебя на палубе старик. Не стоит его злить сегодня.
Джонсон послушно направился к двери, подбодрив меня за спиной повара забавно торжественным и несколько зловещим подмигиванием, как бы подчеркивая свое прерванное замечание о том, что мне необходимо вести себя помягче с капитаном.
На руке у повара висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом.
– Платье уложили мокрым, сэр, – удостоил он объяснить. – Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашей одежды на огне.
Опираясь на деревянную облицовку, то и дело оступаясь от корабельной качки, я при помощи повара надел грубую шерстяную фуфайку. В туже минуту тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Повар заметил мои невольные подергивания и гримасы и ухмыльнулся.
– Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди; такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь.
С самого начала он мне не понравился, и, пока он помогал мне одеваться, моя антипатия к нему росла. В его прикосновении было что-то отталкивающее. Я ежился под его руками, мое тело возмущалось. И поэтому, а в особенности из-за запахов от различных горшков, которые кипели и булькали на плите, я спешил как можно скорее выбраться на свежий воздух. К тому же нужно было повидаться с капитаном, чтобы обсудить с ним, каким образом высадиться мне на берег.
Дешевая бумажная рубашка с драным воротом и выцветшей грудью и с чем-то еще, что я принял за старые следы крови, была надета на меня среди непрекращавшегося ни на одну минуту потока извинений и объяснений. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на десять короче другой. Укороченная штанина заставляла думать, будто дьявол пробовал цапнуть через нее душу повара и поймал тень вместо сущности.
– Кого я должен благодарить за эту любезность? – спросил я, напялив на себя все эти лохмотья. На моей голове красовалась крохотная мальчишеская шапочка, а вместо пиджака была грязная полосатая куртка, оканчивавшаяся выше пояса, с рукавами до локтей.
Повар почтительно выпрямился с искательной улыбкой. Я мог бы поклясться, что он ожидал получить от меня на чай. Впоследствии я убедился, что поза эта бессознательная: то была унаследованная от предков угодливость.
– Магридж, сэр, – расшаркался он, и его женственные черты расплылись в масляной улыбке. – Томас Магридж, сэр, к вашим услугам.
– Хорошо, Томас, – продолжал я, – когда высохнет моя одежда, я вас не забуду.
Мягкий свет разлился по его лицу, и глаза заблестели, точно где-то в глубине его предки шевельнули в нем смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежние существования.
– Благодарю вас, сэр, – сказал он почтительно.
Дверь распахнулась бесшумно, он ловко скользнул в сторону, – и я вышел на палубу.
Я все еще чувствовал слабость после продолжительного купания. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Сильно накренясь, шхуна то опускалась, то поднималась на длинной тихоокеанской волне. Если шхуна шла, как сказал Джонсон, на юго-запад, то ветер дул, по-моему, с юга. Туман исчез, и появилось солнце, сверкавшее на волнующейся поверхности моря. Я поглядел на восток, где, как я знал, находилась Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко лежавших пластов тумана, того самого тумана, который, без сомнения, был причиной крушения «Мартинеса» и ввергнул меня в мое теперешнее состояние. К северу, не очень далеко от нас, возвышалась над морем группа голых скал; на одной из них я заметил маяк. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна.
Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Моей первой мыслью было, что человек, перенесший крушение и плечом к плечу коснувшийся смерти, заслуживает больше внимания, чем мне оказали здесь. Кроме матроса у рулевого колеса, с любопытством оглядывавшего меня через крышу каюты, никто не обратил на меня никакого внимания.
Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Он был одет, но рубашка его была разорвана спереди. Однако кожи его не было видно: грудь была почти сплошь покрыта массой черных волос, похожих на мех собаки. Его лицо и шея были скрыты под черной с проседью бородой, которая, вероятно, казалась бы жесткой и окладистой, если бы не была испачкана чем-то клейким и если бы с нее не стекала вода. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания; рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась, точно ей не хватало воздуха; дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени, методически, точно совершая самое привычное дело, опускал на веревке брезентовое ведерко в океан, вытаскивал, перехватывая веревку руками, и выливал воду на лежавшего без движения человека.
Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, тот самый человек, случайный взор которого спас меня из морской глубины. Рост его был, видимо, пять футов десять дюймов или на полдюйма больше, но он поражал не ростом, а той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Хотя у него были широкие плечи и высокая грудь, но я не назвал бы его массивным: в нем чувствовалась сила закаленных мускулов и нервов, какую мы склонны приписывать обычно людям сухим и худощавым; а в нем эта сила, благодаря его тяжелому сложению, напоминала что-то вроде силы гориллы. И в то же время по внешности он нисколько не походил на гориллу. Я хочу сказать, что сила его была чем-то вне его физических особенностей. Это была сила, которую мы приписываем древним, упрощенным временам, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни; это – вольная, свирепая сила, могучая квинтэссенция жизни, первобытная мощь, рождающая движение, та первичная сущность, которая лепит формы жизни, – короче, та живучесть, которая заставляет тело змеи извиваться, когда ее голова отрезана и змея мертва, или которая томится в неуклюжем теле черепахи, заставляя его подскакивать и дрожать от легкого прикосновения пальца.
Такую силу чувствовал я в этом ходившем взад и вперед человеке. Он крепко стоял на ногах, его ступни уверенно ступали по палубе; каждое движение его мускулов, что бы он ни делал, – пожимал ли плечами или плотно сжимал губы, державшие сигару, – было решительным и, казалось, рождалось из чрезмерной и бьющей через край энергии. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и быть страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури.
Повар высунул голову из кухонных дверей, ободряюще ухмыльнулся и указал мне пальцем на человека, ходившего взад и вперед по палубе. Мне дано было понять, что это и был капитан, или, на языке повара, «старик», именно то лицо, которое мне нужно было потревожить просьбой высадить меня на берег. Я уже шагнул вперед, чтобы покончить с тем, что, по моим предположениям, должно было вызвать бурю минут на пять, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Подбородок с мокрой черной бородой еще больше выпятился кверху, спина изгибалась, а грудь вздувалась в инстинктивном усилии захватить как можно больше воздуха. Кожа под его бородой и на всем теле – я знал это, хотя и не видел – принимала багровый оттенок.
Капитан, или Волк Ларсен, как называли его окружающие, перестал ходить и посмотрел на умиравшего. Эта последняя схватка жизни со смертью была такой жестокой, что матрос прервал обливание водой и с любопытством уставился на умиравшего, в то время как брезентовое ведро наполовину съежилось и вода выливалась из него на палубу. Умирающий, выбив на люке зорю своими каблуками, вытянул ноги и застыл в последнем великом напряжении; только голова еще двигалась из стороны в сторону. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди. Челюсть отвисла, верхняя губа поднялась и обнажила два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, что черты его лица застыли в дьявольской усмешке над миром, оставленным и одураченным им.
Поплавок из дерева, железа или меди сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.
Левиафан – в древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.
Старинная церковь St. Mary-Bow, или просто Bow-church, в центральной части Лондона – Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют «соспеу».
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?
- Новый год огненного петуха гороскоп
- Любовный гороскоп на июль женщина скорпион
- Чем заменить колбасу при правильном питании Мясо запеченное в духовке на бутерброды
- Салат с сосисками и кукурузой
- Что лучше на завтрак годовалому ребенку
- Что приготовить на завтрак ребенку в год и старше: рецепты быстрых и вкусных блюд
- Как правильно приготовить чай с корицей для похудения Как пить корицу с чаем
- Минимальный размер оплаты труда (мрот)
- Должностная инструкция повара школьной столовой
- Расписка о получении трудовой книжки на руки избавит работодателя от проблем Расписка при увольнении о выдаче всех справок
- Лимонный напиток Как варить лимонад из лимонов без цедры
- Салаты из морепродуктов Салат из морепродуктов в духовке
- Домашние рогалики с яблоками: пошагово с фото
- Лапландская уха. Уха по-фински. Традиционный рецепт. С плавленым сыром
- Багет с сыром и с чесноком рецепт в духовке Чесночный соус для багета рецепт
- Как приготовить вкусные сочные медальоны: инструкция к применению Рецепт медальонов из телятины от эктора
- Гораздо вкуснее обычных…
- Гороскоп на конец февраля скорпион
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?