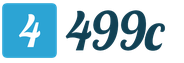Антуан де сент экзюпери военный летчик читать. Антуан де Сент-Экзюпери «Военный летчик
Антуан де Сент-Экзюпери
Военный летчик
Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939 - 1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом.
Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик… Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль - с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам!
Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования - все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь… Приходит Дютертр. Я подзываю его.
Садись, я покажу тебе фокус…
И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза.
Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.
Ну что, дружище?
Сколько во всем этом нежности!
Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?
А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы…
Послушай, Дютертр, сегодня вечером…
Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:
Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра - к майору!
Прощай, школа. Начинается жизнь.
Ты знал, что наша очередь?
Пенико уже летал сегодня утром.
Если нас вызывают, значит, мы летим на задание - это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три - в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю:
Разберемся после войны.
И лейтенант Гавуаль мне ответил:
Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых? Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, - ясно, что ими пожертвуют.
И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения - даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе…
Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)
Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь.
Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному.
Дайте сюда метеосводку.
Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба - штаба дивизии, штаба корпуса… Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе - мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но мы понимаем: силы его на исходе, нервы уже не выдерживают.
Ну, так вот…
Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.
Дело очень скверное…
Он пожимает плечами.
Скверное задание. Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Я возражал, но они настаивают… Вот так-то.
Мы с Дютертром смотрим в окно - небо ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки - в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба - все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное… Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах - разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика - целое кладбище мертвых часов. Война… никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать…
Я словно заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное…» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание - безнадежное.
Учитывая обстановку, - заключает майор, - с риском считаться не приходится…
Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы - в том, что приуныли. Ни майор - в том, что ему не по себе. Ни штаб - в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает с взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место.
Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну.
И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» - «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие».
Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33;
и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и
Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939 - 1940 годов я поочередно
вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом
Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю
задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую
циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом
перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске.
Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой
сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго
смотрю на нее. Я рассеянный ученик... Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь
запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я
могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство,
школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с
замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной.
Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже
делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих
противниках. Линейка, угольник, циркуль - с их помощью ты будешь строить мир
или побеждать врагов. Конец забавам!
Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на
месте. Муки, опасности, разочарования - все, чем полна жизнь взрослого,
школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и
не слишком тороплюсь вступать в жизнь... Приходит Дютертр. Я подзываю его.
- Садись, я покажу тебе фокус...
И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового
туза.
Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он
смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.
- Ну что, дружище?
Сколько во всем этом нежности!
Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух
товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем
их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь
пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои
расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке.
И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь
судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы
жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?
А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы...
- Послушай, Дютертр, сегодня вечером...
Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:
- Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра - к майору!
Прощай, школа.
Антуан де Сент-Экзюпери
Военный летчик
Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939–1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом
Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик... Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль – с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам!
Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования – все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь... Приходит Дютертр. Я подзываю его.
– Садись, я покажу тебе фокус...
И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза.
Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.
– Ну что, дружище?
Сколько во всем этом нежности!
Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?
А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы...
– Послушай, Дютертр, сегодня вечером...
Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:
– Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра – к майору!
Прощай, школа. Начинается жизнь.
– Ты знал, что наша очередь?
– Пенико уже летал сегодня утром.
Если нас вызывают, значит, мы летим на задание – это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три – в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю:
– Разберемся после войны.
И лейтенант Гавуаль мне ответил:
– Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых? Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, – ясно, что ими пожертвуют.
И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения – даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе...
Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)
– Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь.
Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному.
– Дайте сюда метеосводку.
Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба – штаба дивизии, штаба корпуса... Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе – мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но мы понимаем: силы его на исходе, нервы уже не выдерживают.
– Ну, так вот...
Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.
– Дело очень скверное...
Он пожимает плечами.
– Скверное задание. Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Я возражал, но они настаивают... Вот так-то.
Мы с Дютертром смотрим в окно – небо ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки – в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба – все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное... Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах – разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика – целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать...
P-38 известен тем, что на нем летали два самых результативных лётчика-истребителя в истории американской военной авиации — Ричард Айра Бонг и Томас Макгуайр, а также известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, который погиб в полёте над морем летом 1944.
Двадцать девятого июня исполн илось 116 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
— Ну, так вот…
Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.
— Дело очень скверное…
Он пожимает плечами.
— Скверное задание. Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Я возражал, но они настаивают… Вот так-то.

— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится…
«Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» — «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие».
— Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр.
Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь.
— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!.. — добавил Дютертр.
А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!..
Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит:
«— Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, купите мне в киоске коробку спичек…
— Ясно, господин майор».

— Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию… если вы сегодня не в форме, я могу…
— Что вы, господин майор?
Майор прекрасно знает, что предложение его нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не посчитались с ней.
— Курс готов, господин капитан.
Ладно. Курс готов. Безнадежное задание… Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы…
— Наняли бы они себе спиритов, там, в штабе…
— Зачем?
— Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения!
— Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка…
— Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — штука весьма неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!..
А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера…
Смысл был бы точно такой же!
— Почему вы все время говорите. «Я… да… отлично»?
— Я ищу карандаш, господин капитан.
Ларингофоны не отказали.
— Стрелок, давление в баллонах нормальное?
— Я… да… нормальное.
— Во всех трех?
— Во всех трех.
— Дютертр, готов?
— Готов.
— Стрелок, готов?
— Готов.
— Тогда — двинулись.
И я отрываюсь от земли.
Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку А, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати…
— Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела?
— Гм… нет, господин капитан.
— Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы.
Я слышу очереди.
Я спрошу его:
— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?
— Откуда же мне знать?
— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.
Какой он неучтивый, мой хозяин.
— Назовите любую цифру!
— Ну, семь.
— Сто три!
И я буду доволен.
— …тан?
— Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?
— …шу… вас… тан…
— А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня?
— Слышу вас отлично, господин капитан!
— Ну так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело!
— Веселенькая история. А высота?
— Девять тысяч семьсот.
— Температура?
— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?
— В порядке, господин капитан.
— Стрелок, кислород в порядке?
Нет ответа.
— Стрелок!
Нет ответа.
— Дютертр, вы слышите стрелка?
— Не слышу, господин капитан…
— Вызовите его!
— Стрелок! Эй, стрелок!
Нет ответа.
Но прежде чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул.
— Господин капитан?
— Это вы, стрелок?
— Я… гм… да…
— Вы что, не вполне в этом уверены?
— Уверен!
— Почему вы не отвечали?
— Я проверял передатчик. Я отключался!
— Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли!
— Я… нет…
— Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться!
— Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать.
Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа.
И я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь.
— Капитан… курс!
Точно. Я отклонился влево. Это не случайно… Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды».
— Стрелок!
— Капитан?
— Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!
— Слышал, капитан!
— Дютертр, они нас заметили?
— Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.
— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?
— …несколько секунд.
— Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос.
— Слушаю, господин капитан.
— Нет… ничего.
— А что было, господин капитан?
— Ничего… Мне показалось… нет… ничего…
Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор…
Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку…
Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться…
Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке… Значит… Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию…
Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску… Я уже не вижу приборной доски… Я обливаюсь потом, и мне грустно.
Жизнь потихоньку вернулась ко мне.
— Дютертр!..
— Слушаю, господин капитан!
Мне хочется рассказать ему о случившемся.
— Я… думал… что…
Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб…
— Так что же было, господин капитан?
— Нет… ничего.
— Право, господин капитан, вы говорите загадками!
Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.
— …Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это… вы же знаете, там соединительная трубка… Пламя было несильное…
Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется:
— А все-таки… там был огонь… Тогда я велел им прыгать…
Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!
— Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину… Мне стало немного не по себе.
На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе…» И он явно старается быть точным.
— Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать… (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет…
Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.
— Тогда я сдвинулся назад, посмотрел — стрелка нет…
Стрелок тоже был мертв.
— Я решил, что остался один…
Он соображал:
— Если бы я знал… я мог бы опять влезть в кабину… Горело не так уж сильно… Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле… Я не знал, что делать…
Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать… Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.
— А потом я прыгнул, — сказал он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго…
Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.
И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.
В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила его — его, вернувшегося чуть ли не с того света. Покрытый мусором и щебнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости.
Но когда человек смог отвечать, он сказал:
— Да-да, я слышал какой-то треск…
Или еще:
— Мне было тяжело. Это тянулось долго… Ох как долго…
Или:
— Болела поясница, сильно болела…
И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял…
— Уж я искал их, искал… хорошие были часы… но в этой кромешной тьме…
— Кажется, стреляют.
Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.
С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями.
Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа.
«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «…недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд…»
— Дайте-ка левой ноги!
Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:
«…вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников…»
Дать левой… дать левой…
Легко сказать! Ослепительно красивой женщине не удается ее вираж.
— Если будете петь… вам не поздоровится… господин капитан.
Неужели я пел?
Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:
— Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.
Можно… Можно… разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.
Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли…
Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.
На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.
В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.
Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается.
Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.
Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, за которым теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.
Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня:
— Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.
И в утешение прибавили:
— Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить.
И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать.
Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Бывало, страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину, и становилось ясно, что починить ее невозможно. Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все .
— Можно снижаться!
Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды.
На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту.
— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне!
— Понял. Сто семьдесят два.
Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя немецкой артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех.
Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать, только на то, чтобы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.
Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два.
Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.
— А Паула знает, что я вырос?
— Конечно знает.
Паула знала все.
— Господин капитан, они стреляют.
Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну что ж. Ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный: он синий. Сказочно синий. Наступают сумерки, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя…
— Сто семьдесят пять.
Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять…» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке.
— Дрянь дело, господин капитан.
Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может сливы. Я вписался в пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея… О нет, мне не страшно. Немного грустно, и все.
— Маневрируйте, капитан!
Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки знаешь… она сказочна, эта вечерняя синева!
Там, впереди, я заметил три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра…
— Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо!
Жму на педаль.
И вдруг:
— Ну, капитан! Такого я еще не видывал…
Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся…
Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен.
Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора.
Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьи удалились на совет.
Я думаю… я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что.
Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.
— Дютертр, далеко еще?
— …продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили… но…
— Может, проскочим…
— Черта с два!
До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь…
Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я командую экипажем победителей…
Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче и меня охватывает тайное ликование.
— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене.
— Ну как, стрелок?
— Гм… да… капитан… нормально.
— Что, жарко пришлось?
— Гм… нет… да…
Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина… Каково?.. Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок.
По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность; «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?»
— Гм…
— Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно.
— Я… Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно…
— Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров?
Почему Алиас так жесток?
— Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение.
И все-таки, майор Алиас, вы были правы.
— Капитан… стреляют… мы в запретной зоне…
Курс вычисляет он. Я тут ни при чем.
— Здорово стреляют?
— Стреляют вовсю…
— Повернем?
— Ну, нет…
Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик.
— Дютертр… послушайте… глупо же, если нас собьют свои!
— …не собьют… пусть поупражняются.
Дютертр язвит.
А у меня нет охоты язвить. Я счастлив. Мне приятно поговорить со своими.
— Да уж… стреляют, как…
Он, оказывается, жив, наш стрелок! Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключения молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела. Во всяком случае, потока излияний не было.
Но сейчас дело коснулось его специальности: пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уж специалистов не удержать.
Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:
— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну… Поужинаете с нами?
Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой . Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.
— Все это плохо кончится!..
Все это плохо кончится… Заведомо неодолимая преграда… Плохо кончится…
— Ты спишь?
— Я… нет… что плохо кончится?
— Война.
Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу:
— …какая война?
— Как это «какая»?
Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели!
Майор с размаху распахивает дверь.
— Решено. Перебазируемся.
За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из-за каких-то ему самому неведомых резервов.
Мы встаем. Мы говорим: «А!.. Ну, ладно…» Что мы можем сказать?
Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме.
Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.









Антуа́н Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-Экзюпери́ (фр. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry ; 29 июня 1900, Лион, Франция — 31 июля 1944) — известный французский писатель, поэт и профессиональный лётчик, эссеист. Граф.
В 1912 году на авиационном поле в Амберьё-ан-Бюже Сент-Экзюпери впервые поднялся в воздух на самолёте. Машиной управлял знаменитый лётчик Габриэль Вроблевски.
Поворотным в его судьбе стал 1921 год — тогда он был призван в армию во Франции. Прервав действие отсрочки, полученной им при поступлении в высшее учебное заведение, Антуан записался во 2-й полк истребительной авиации в Страсбурге. Сначала его определяют в рабочую команду при ремонтных мастерских, но вскоре ему удается сдать экзамен на гражданского лётчика. Его переводят в Марокко, где он получает права уже военного лётчика, а затем посылают для усовершенствования в Истр. В 1922 году Антуан заканчивает курсы для офицеров запаса в Аворе и становится младшим лейтенантом. В октябре он получает назначение в 34-й авиационный полк в Бурже.
Сент-Экзюпери едва не погиб при испытаниях нового гидросамолёта в бухте Сен-Рафаэль. Гидросамолёт перевернулся, и он едва успел выбраться из кабины тонущей машины.
В апреле 1935 года, в качестве корреспондента газеты «Пари-Суар», Сент-Экзюпери посетил СССР и описал этот визит в пяти очерках. Очерк «Преступление и наказание перед лицом советского правосудия» стал одним из первых произведений писателей Запада, в котором делалась попытка осмыслить сталинизм. 1 мая 1935 г. он присутствовал на встрече, куда был приглашен и М. А. Булгаков, что зафиксировала в дневнике Е. С. Булгакова.
В скором времени Сент-Экзюпери становится владельцем собственного самолёта С.630 «Симун» и 29 декабря 1935 года предпринимает попытку поставить рекорд при перелёте Париж — Сайгон, но терпит аварию в Ливийской пустыне, снова едва избежав гибели.
4 сентября 1939 года, на следующий день после объявления Францией войны Германии, Сент-Экзюпери является по месту мобилизации на военный аэродром Тулуза-Монтодран и 3 ноября переводится в авиачасть дальней разведки 2/33, которая базируется в Орконте (провинция Шампань). Это было его ответом на уговоры друзей отказаться от рискованной карьеры военного лётчика. Многие пытались убедить Сент-Экзюпери в том, что он принесёт гораздо больше пользы стране, будучи писателем и журналистом, что пилотов можно готовить тысячами и ему не стоит рисковать своей жизнью. Но Сент-Экзюпери добился назначения в боевую часть. Сент-Экзюпери сделал несколько боевых вылетов на самолете «Блок-174» . (Последняя легенда Сент-Экзюпери .) Один из рейдов 22 мая 1940 года в район Арраса послужил основой для его повести "Военный летчик ". В июне 1941 года, после поражения Франции, переехал в неоккупированную часть страны, а позже выехал в США. Жил в Нью-Йорке, где в числе прочего написал свою самую знаменитую книгу «Маленький принц» (1942, опубл. 1943). В 1943 году он вступил в ВВС «Сражающейся Франции» и с большим трудом добился своего зачисления в боевую часть. Освоил пилотирование нового скоростного самолета «Лайтнинг» Р-38. «У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь — завтрак в шесть утра, столовую, палатку или белённую известкой комнату, полёты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире — я предпочитаю невыносимой алжирской праздности…
Сент-Экзюпери Мижо Марсель
«Военный летчик»
«Военный летчик»
В Орконте маленькая Сесиль значительно скрашивала жизнь Антуана, давала выход его естественной нежности. О его заботливом отношении к ней говорит, например, следующий случай.
Как-то раз в воскресенье после богослужения пошел дождь, и прихожане, не задерживаясь на площади перед церковью, как обычно, стали сразу же расходиться по домам. Сент-Экс увидел из окна, как фермерша, держа зонтик в одной руке, другой тащит за собой упирающуюся Сесиль. Малышка тянулась ручонкой к зонтику матери. Антуан вышел под навес в тот самый момент, как дверь открылась перед рассерженной матерью и плачущей девочкой.
В чем дело? - спросил Сент-Экс, склоняясь над малышкой.
Вместо плачущей девочки ответила мать:
Дай ей зонтик! Для маленьких детей нет зонтиков! Не правда ли, господин де Сент-Экзюпери?
Право, не знаю, мадам! - с таким сомнением в голосе произнес Сент-Экс, что девочка тотчас же перестала плакать.
На следующий день Сент-Экзюпери вернулся на ферму с маленьким зонтиком, который он раздобыл в универмаге в Витри-ле-Франсуа.
Маленькая Сесиль, став взрослой женщиной, все еще хранит память о своем большом друге. И, может быть, воспоминанием об этом происшествии проникнуты следующие слова из «Цитадели»:
«Маленькая девочка в слезах... Меня всего обдало ее горем... Если я остаюсь безучастен к нему, я суживаю свой мир... Эту девочку надо утешить. Тогда только в мире порядок».
После вечерней трапезы в кругу фермеров Сент-Экс уходил к себе в комнату. Здесь его часто навещала подруга, с которой у него создается все большая духовная близость. Близость эта сохранится у них до самых последних дней и после того, как они перестанут быть любовниками.
Иногда, когда какое-нибудь дело требует его присутствия утром в столице, он ночует у себя дома в Париже. Его большая квартира на площади Вобан пустует: Консуэло, эта экзотическая птичка, выпорхнула, улетела неизвестно куда. Здесь сильнее, чем где-либо, ощущаешь свое одиночество, угрозу, нависшую над Францией. И Сент-Экс избегает по возможности задерживаться на ночь в Париже. Вечерами Антуан большей частью либо пишет в своей комнате в Орконте, либо - как, впрочем, в любой момент, когда его мозг не занят очередной срочной проблемой, - предается размышлениям. Заметки, которые он при этом делает, служат впоследствии материалом для его новых произведений. Книга «Военный летчик» и в особенности ее заключительные главы, ради которых и было написано все произведение, лучше всего передают его мысли и настроения в это время:
«Дютертр и я - мы козыри в игре, и мы слушаем командира. Он излагает нам программу сегодняшнего дня. Он дает нам задание пролететь на высоте 700 метров над танковыми скоплениями в районе Арраса. „Досадное задание. Но в штабе настаивают на нем“, - пожимает плечами майор Алиас.
Я думаю - «обреченное задание». Я думаю... я что-то много думаю. Подожду ночи, если буду жив, чтобы продумать все. Но быть живым... Когда легкое задание, возвращается один экипаж из трех. Когда оно малость «досадное», разумеется, вернуться гораздо труднее. И здесь, в кабинете командира, смерть мне не кажется ни возвышенной, ни величественной, ни героической, ни вызывающей отчаяние. Она лишь знаменует беспорядок. Следствие беспорядка. Соединение потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке при пересадках на железной дороге.
И дело не в том, чтобы я не думал о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, о всякой всячине, но мне недостает направляющего понятия, способа ясно выразить мои мысли. Я мыслю противоречиями. Моя истина раздроблена на куски, и я могу изучать их лишь каждый в отдельности. Если я буду жив, я дождусь ночи, чтобы продумать все. Моей любимой ночи. Ночью разум спит и вещи существуют сами по себе. Те, что действительно имеют значение, восстанавливают свою форму, разрушенную анализами дня. Человек восстанавливает свое единство и снова становится спокойным деревом.
День располагает к семейным сценам, но ночью тот, кто ссорился, снова находит любовь. А любовь куда значительнее, чем этот вихрь слов. И человек, облокотившись на подоконник, под звездами, снова ответствен за спящих детей, за хлеб насущный, за сон супруги, которая покоится рядом, такая хрупкая, деликатная и бренная. С любовью не спорят, Она есть. Скорее бы ночь, чтобы мне предстали очевидности, заслуживающие любви. Чтобы я поразмыслил о цивилизации, судьбе человека, стремлении к дружбе в моей стране. Чтобы я захотел служить неким императивным истинам, хотя, возможно, их еще нельзя выразить.
Сейчас я подобен христианину, которого покинула благодать. Я и Дютертр - мы честно сыграем свою роль, это несомненно. Но сыграем так, как спасают обрядность, лишенную содержания, когда бога в ней уже нет. Если мне удастся выжить, дождусь ночи и, погрузившись в излюбленное одиночество, выйду на дорогу, пересекающую нашу деревню, и попытаюсь понять, почему я должен идти на смерть...
Меня коробит от одной очевидности, в которой никто не хочет признаться: жизнь Духа протекает с перебоями. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность к анализу претерпевает мало изменений. Однако Дух рассматривает вовсе не предметы, а смысл их взаимосвязей.
Чему служит то, что я рискую жизнью в этом оползне горы? Не знаю. Мне сотни раз говорили: «Согласитесь на такое-то назначение. Там ваше настоящее место. Вы там будете полезнее, чем в эскадрилье. Летчиков обучить можно тысячи...» Разум мой соглашался с ними, но инстинкт брал верх.
Почему эти доводы мне казались неубедительными, хотя мне и нечего было возразить? Я говорил себе: «Интеллигенция подобна банкам с вареньем на полках Пропаганды: она осторожничает и хочет остаться про запас, чтобы быть съеденной после войны...» Но это не ответ! И сегодня я, как и товарищи, вылетел на задание вопреки всем доводам разума, вопреки всем очевидностям, вопреки подсознательному протесту. Придет час, и я узнаю, что, поступая вопреки разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если буду жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я, наконец, приду к сознанию своей правоты. И я прозрею.
Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда, женщина кажется мне красивой, мне нечего сказать. Я просто вижу ее улыбку. Интеллигент станет разбирать ее лицо, пытаясь деталями объяснить целое, но он не видит улыбки.
Узнать - не значит разобрать на части или объяснить. Это увидеть. Но чтобы видеть, необходимо сначала участвовать. Это суровая школа...
Весь день моя деревня была для меня невидима. До вылета передо мной были только глинобитные стены и более или менее грязные крестьяне. Теперь с высоты десяти километров я вижу немножко гравия. Это и есть моя деревня.
Но этой ночью, быть может, сторожевой пес проснется и залает. Я всегда любил волшебство деревни, которая лунной ночью грезит вслух голосом единственного сторожевого пса.
Я не надеюсь, что меня поймут. Мне это совершенно безразлично. Пусть только я увижу вновь мою спящую деревню с ее закрытыми на замок дверьми, за которыми хранится запас зерна, скот, обычаи.
Тогда, быть может, я увижу то, чему нет имени, и я потянусь к этому, как слепец, ладони которого притянули к огню. Он не сумел бы описать пламя, а между тем пришел к нему. Так, быть может, мне станет ясно: надо оберегать то, что незримо, но не угасло подобно жару под пеплом деревенской ночи...
Нет обстоятельств, способных сразу пробудить в нас неизвестного, о котором мы прежде ничего и не подозревали. Жить-это постепенно рождаться. Было бы слишком просто заимствовать уже готовую душу!
Иногда какое-нибудь озарение внезапно как бы поворачивает судьбу. Но озарение - лишь внезапно увиденный Духом давно подготовлявшийся путь. Я медленно изучал грамматику. Я упражнялся в синтаксисе. Во мне пробудились чувства, и вот какая-то поэма вдруг поразила меня в самое сердце.
Конечно, сейчас я еще не испытываю никакой любви, но если сегодня ночью на меня снизойдет откровение, значит, я, сгибаясь под тяжестью, принес свой камень на невидимую стройку. Я подготавливаю этот праздник чувств и не вправе буду говорить о внезапном появлении во мне кого-то другого, ибо этого другого - я его строю в себе сам.
Мне нечего ожидать от войны, кроме этого медленного возникновения. Уроки войны окупятся позже, как и уроки грамматики...
Мне кажется, я теперь значительно лучше вникаю в то, чем является цивилизация. Цивилизация - это наследие верований, обычаев, знаний, приобретенных веками, которые не всегда оправданы логикой, но которые находят свое оправдание в самих себе, как пути, если они куда-то ведут, ибо они открывают человеку его внутренние просторы.
Есть более высокая истина, чем доводы разума. Нас что-то пронизывает и управляет нами. И я подчиняюсь этому, не будучи еще в состоянии осмыслить то, что во мне происходит... Есть очевидные истины, которые все же не поддаются формулировке. Я иду на смерть вовсе не для того, чтобы воспротивиться нашествию, ибо нет такого убежища, где бы я мог укрыться с теми, кого люблю. Я иду на смерть вовсе не для того, чтобы спасти свою честь. Я отрицаю, что она находится под угрозой. Я даю отвод судьям. Я иду на смерть вовсе не из отчаяния...
Ремесло свидетеля меня всегда отталкивало. Кто я такой, если я не участвую? Чтобы существовать, мне необходимо участвовать...
И дело вовсе не в том, чтобы я отрицал доводы разума, победу сознания. Я преклоняюсь перед ясностью мысли. Но чего стоит человек, если он лишен субстанции?..
Мы чуть было не погибли во Франции от разума без всякой субстанции...
Майор Алиас, майор Алиас!.. Этим единением среди вас я наслаждался, как огнем слепой. Слепой садится и протягивает руки. Он не знает, откуда приходит к нему наслаждение. Возвращаясь с заданий, мы готовы принять награду. Какова она, нам еще неизвестно. Но это попросту любовь.
Мы не сразу узнаем в ней любовь. В любви, которую мы обычно себе представляем, больше страсти и волнения. Но речь здесь идет о настоящей любви: о переплетении связей, которые ведут к становлению человека...
Я обнаруживаю свою связь не только с товарищами. Через них я ощущаю связь со всей моей страной. Как только зерно любви начинает прорастать, оно пускает корни, которые не перестают развиваться.
Мой фермер в молчании делит хлеб. Заботы дня придали ему благородную строгость. В последний раз, быть может, он совершает эту раздачу хлеба как отправление некоего культа.
И я думаю о полях, простирающихся вокруг, - это они создали материал, из которого сделан этот хлеб. Неприятель завтра захватит их. И не жди здесь гама вооруженных толп, бряцания оружия! Земля велика. Возможно, нашествие проявится лишь одиноким часовым, затерянным в просторах полей,-серой вехой на глади хлебов. Внешне ничего не изменится, но когда дело идет о человеке, достаточно самой малости, чтобы все стало иным.
Порыв ветра над хлебами всегда будет подобен порыву ветра на море. Но порыв ветра над хлебами потому кажется нам могущественнее, что, проносясь в пшенице, он как бы ведет учет своему добру, удостоверяется в будущем. Он - ласка жене, нежная рука, треплющая волосы подруги.
Хлеба эти завтра будут иными. Пшеница - не только пища телесная. Кормить человека - не скот откармливать. Хлебу присуще столько назначений! Делясь хлебом, мы научились видеть в нем орудие единения людей. Зарабатывая хлеб в поте лица, мы научились видеть в нем величие труда. В годину бедствия хлеб, раздаваемый нами, становится для нас носителем сострадания. Хлеб, которым делишься, не имеет себе равного по вкусу. Но вот все могущество этого хлеба духовного, этой пищи духовной, порожденной пшеничным полем, находится под угрозой. Завтра, быть может, деля хлеб, фермер уже не будет выполнять обряд семейного культа. Быть может, завтра хлеб уже не зажжет в глазах то же сияние. А ведь хлеб подобен маслу в светильнике: он тоже претворяется в пламя.
Я гляжу на племянницу фермера. Она очень красива, и я говорю себе: хлеб, питая ее, порождает грусть и обаяние. Он становится девичьей чистотой. Он становится лаской молчания. Но вот тот же хлеб по вине серой вехи на глади пшеничного океана питая тот же светильник, возможно, не породит того же пламени. Могущество хлеба изменит свою сущность.
Я сражался не столько ради пищи телесной, сколько ради того, чтобы спасти эту сущность, этот особый свет. Я сражался за то особое сияние, в которое претворяется хлеб у меня дома. И волнует меня больше всего в этой таинственной для меня девушке ее духовный облик. Эта его непонятная взаимосвязь с чертами лица. Стихотворная строка на странице книги, а не сама страница...
Я обещал себе этот разговор с моей деревней. Но мне нечего сказать. Я подобен плоду, не отделимому от дерева. Помнится, я об этом думал несколько часов тому назад, когда улегся мой страх. Просто я ощущаю свою связь со всеми земляками. Я плоть от их плоти, как и они - частица самого меня. Когда мой фермер делил хлеб, он ничего не дарил. Он наделял и обменивал. Мы приобщались к тому же хлебу. Фермер от этого не беднел. Он богател: хлеб стал лучше, потому что был насыщен единением. Когда сегодня я вылетел на задание ради моих односельчан, я тоже ничего им не дарил. Мы, бойцы из нашего соединения, мы ничего им не дарим. Мы доля той жертвы, которую они приносят войне, Я понимаю, почему Ошеде воюет без громких слов, подобно кузнецу, который кует для своей деревни. «Кто вы?» - «Я деревенский кузнец». И кузнец счастлив трудиться.
И если теперь я надеюсь, когда, казалось, они отчаиваются, я ничем от них не отличаюсь. Просто я доля их надежды. Разумеется, мы уже побеждены. Все поставлено под сомнение. Все рушится. И все же я спокоен, словно победитель. Противоречие в словах? Плевать я хотел на слова! Я такой же, как Пенико, Ошеде, Алиас, Гавуалль. Мы не располагаем способом выражения мыслей, который оправдывал бы наше ощущений победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Нельзя одновременно обладать чувством ответственности и быть в отчаянии.
Поражение... Победа... Я плохо пользуюсь этими обозначениями. Есть победы, которые воодушевляют, есть-которые вызывают упадок сил; есть поражения, которые убивают, и поражения, которые пробуждают. Жизнь выражается не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, не вызывающая у меня сомнений, заключается в могучей силе зерна. Брошенное в плодотворную почву, оно уже празднует победу. Однако необходимо время, чтобы эта победа обернулась торжеством в хлебах.
Сегодня здесь ничего не было, кроме разбитой армии и беспорядочной толпы. Но беспорядочная толпа уже не беспорядочная, если в ней есть хоть одно сознание, в котором, как в завязи, она уже спаяна воедино. Камни на строительной площадке только в кажущемся беспорядке, если где-то на этой Площадке есть человек, пусть всего один-единственный человек, который думает о соборе. Меня не беспокоит, что ил разбросан по всему полю, если в нем есть зерно. Зерно высосет ил, чтобы строить.
Тот, кто приходит к созерцанию, преображается в зерно. Тот, кто открывает нечто очевидное, тянет каждого за рукав, чтобы привлечь его внимание. Тот, кто изобрел что-нибудь, тотчас же проповедует свое изобретение. Я не знаю, как какой-нибудь Ошеде проявит себя и как будет действовать. Но это неважно. Он будет невозмутимо распространять свою веру вокруг себя. Мне становится понятнее принцип побед: тот, кто обеспечил за собой место пономаря или сторожа в построенном соборе, уже побежден. Но тот, кто вынашивает в сердце мечту построить собор, - победитель. Победа - плод любви. Только любовь знает, чье лицо вылепить. Только любовь направляет. Разум чего-то стоит лишь на службе у любви.
Скульптор полон вынашиваемым творением. Какое имеет значение, если он еще не знает, как будет лепить? От нажима перстом до нажима перстом, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно через глину придет к своему творению. Ни ум, ни суждение не созидательны. Если скульптор лишь полон знания и ума, его руки не будут одухотворены.
Мы слишком долго переоценивали ум и пренебрегали сущностью человека. Мы считали, что мастерство низменных душ позволит справиться с благородными делами, что ловкость и эгоизм могут воодушевлять на самоотверженность, что черствость сердца может с помощью пустых речей породить братство и любовь. Мы отнеслись небрежно к существу, Человека. Кедровое семя, хочешь не хочешь, станет кедром, семя ежевики - ежевикой. Я не хочу впредь судить о человеке на основании готовых формул, оправдывающих его действия. Слова слишком легко вводят в заблуждение, в них так же легко ошибиться, как в цели того или иного действия. Ведь когда человек идет домой, мне неизвестно, идет ли он поссориться с кем-то или любить. Я спрошу себя: «Что он за человек?» Тогда только мне станет ясно, к чему у него лежит душа и куда он идет. В конечном, счете человек всегда идет, куда его тянет.
Росток, тянущийся к солнцу, всегда находит дорогу между камней. Чистейший логик, если никакое солнце не притягивает его, запутывается в сумбуре проблем. Я не забуду урока, преподанного мне самим неприятелем. Какое направление должна избрать бронетанковая колонна, чтобы зайти в тыл противника? На это у него нет ответа. А какой должна быть бронетанковая колонна? Она должна быть способной обрушить на плотину всю мощь моря.
Что нужно делать? Это ли, или как раз обратное? Или еще что-то другое? Никакого детерминизма не существует. Каким надо быть? Вот основной вопрос - только дух оплодотворяет разум. Он закладывает в него зачаток будущего творения, Разум вынашивает его до конца. Что должен сделать человек, чтобы создать первый корабль? Формула чересчур сложна. Корабль в конце концов родится из тысячи тысяч противоречивых попыток. Но созидатель корабля, каким ему быть? Торговцем или солдатом, ибо тогда в силу необходимости его любовь к далеким землям вызовет к жизни техников, соберет рабочих и в один прекрасный день спустит на воду корабль! Что нужно сделать, чтобы целый лес поднялся на воздух? Ах, это слишком сложно!.. Каким для этого надо быть? Надо быть пламенем!
Завтра мы погрузимся в ночь. Пусть существует еще моя страна, когда вновь наступит день! Что сделать, чтобы спасти ее? Как выразить наипростейшее решение этой проблемы? Надобности в этом вопросе противоречивы: надо спасти духовное наследие, иначе гений народа увянет; надо спасти сам народ, иначе наследие пропадет. За отсутствием общей формулы для того или другого спасения логисты почувствуют соблазн пожертвовать душой или телом. Но наплевать мне на логистов! Я хочу, чтобы дух и тело моей страны сохранились в целости к моменту, когда вновь настанет день. Ради блага моей страны мне придется каждую минуту действовать в этом направлении всей силой своей любви. Нет плотины, способной сдержать море, когда оно обрушивается на нее всей своей мощью...
Мы уже ощущаем нашу общность. Конечно, надо найти ей какое-то выражение, чтобы вовлечь в нее и других. Это дело сознания и языка. Однако чтобы не потерять ничего из самой ее субстанции, придется избегать ловушек преходящей логики, шантажа и полемики. И прежде всего мы не должны поступаться ничем, что является нашей сущностью...
Но хотя я и сохранил в душе образ цивилизации, свою принадлежность к которой я утверждаю, я утерял те правила, на которых она зиждется. В эту ночь я обнаруживаю: употребляемые мной слова не говорят уже о самой сути. Так, например, я проповедовал Демократию и не подозревая, что тем самым высказываю в отношении требуемых качеств для становления Человека не какой-то кодекс правил, а пожелания. Я выражал пожелание, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется! Кто с этим не согласится? Но я сумел выразить только то, «кем» должен быть человек, а не «что» он должен собой представлять.
Я говорил, не уточняя слов, о человеческой общине. Как если бы атмосфера, на которую я намекал, не являлась результатом какой-то особой архитектоники. Мне казалось, я говорю о некоей само собой разумеющейся очевидности. Но такой очевидности не существует. Фашистская дружина, невольничий рынок - тоже человеческая община.
Таковыми являются, например, пассажиры корабля. Они пользуются судном, но ничего не дают ему. Укрывшись в салоне, который им кажется наилучшей обстановкой, они продолжают свои игры. Они ничего не знают о работе шпангоутов, сопротивляющихся непрестанному натиску моря. Какое у них право жаловаться, если буря разобьет корабль на части?
Если личности так низко пали, если я побежденный, какое у меня основание жаловаться?
Есть общая мера качеств, которую я желаю людям моей цивилизации. У той особой общины, которую они должны построить, есть краеугольный камень. Есть основной принцип, из которого некогда все произошло: корни, ветви, плоды. В чем этот принцип? Он явился мощным семенем в людском перегное. Только он, этот принцип, может сделать меня победителем.
Этой удивительной деревенской ночью, мне кажется, я начинаю понимать многое. Превосходная тишина. Малейший звук полностью заполняет все пространство, как колокольный звон. Ничто мне не чуждо. Ни жалобное мычание, издаваемое скотиной, ни этот дальний зов, ни стук закрывающейся двери. Все происходит точно во мне самом. Нужно успеть ухватить смысл ощущения, пока оно не исчезло...
Я думаю: «Это все аррасская канонада...» Канонада эта пробила кору. Весь этот день я подготавливал в себе обитель. Я был лишь ворчливым управляющим. Вот она, личность. Но во мне возник Человек. Просто он занял мое место. Он взглянул на беспорядочную толпу и увидел в ней народ. Свой народ. Человек - общая мера этого народа - возник во мне. Поэтому, стремясь вернуться в свою часть, я, казалось, стремился к большому огню. Человек смотрел моими глазами - Человек - общая мера товарищества.
Что это, знамение? Я так готов поверить в знамения... Все сегодня - молчаливое согласие. Каждый звук доходит до меня, как некое сообщение - ясное и вместе с тем туманное. Я слышу, как чей-то спокойный шаг заполняет ночь.
Добрый вечер, капитан!
Добрый вечер!
Я не знаю, кто это прошел. Приветствие пронеслось между нами, как «о-эй!» речников с баржи на баржу. Еще раз я испытал чувство чудесного родства. Человек, который живет сегодня во мне, не перестает распознавать своих. Человек - общая мера народов и рас...
Этот встречный возвращался домой со своим свежим запасом забот, дум, образов. Со своим собственным грузом, который он нес в себе. Я мог бы остановить его, заговорить с ним. На белизне деревенской дорожки мы обменялись бы кое-какими впечатлениями. Так торговцы по возвращении с дальних островов обмениваются сокровищами.
В моей цивилизации тот, кто отличен от меня, не только не наносит мне ущерба, а обогащает меня. Наше единство превыше нас создается в Человеке. Так, наши вечерние споры в соединении 2/33 не только не мешали нашему братству, а укрепляли его. Ведь никому неохота ни слушать лишь собственное эхо, ни все время смотреться в зеркало.
В Человеке находят себя одинаково и французы из Франции и норвежцы из Норвегии. Человек их связывает в своем единстве. В то же время, и это отнюдь не противоречит его сущности, он укрепляет их в свойственных им обычаях. Дерево тоже выражено в ветвях, ничем не напоминающих корни. И если где-то пишут сказки на снегу, если в Голландии выращивают тюльпаны, а в Испанки импровизируют фламенко - все мы обогащаемся в Человеке. Поэтому-то наша авиачасть изъявила желание сражаться за Норвегию...
И вот, мне кажется, я подхожу к концу своего долгого паломничества. Я ничего не открываю, но, как это водится после сна, вновь замечаю вещи, которые уже не замечал.
Моя цивилизация зиждется на культе Человека, пробивающегося сквозь личности. Веками она старается показать Человека, как если бы она учила сквозь камни различать собор. Она проповедовала этого Человека, преодолевшего личность...
Ибо Человек моей цивилизации не определяется людьми. Это Люди определяются по нему. В нем, как и во всяком Существе, есть нечто, что никак не объяснишь, исходя из материалов, из которых он «построен». Собор - вовсе не сумма камней. Это геометрическое и архитектурное целое. Не камнями определяется собор, это он придает дену камням своим значением. Камни облагорожены тем, что они входят в состав собора. Самые различные камни служат его единству. В своем гимне богу собор скрадывает даже искаженные гримасами рыльца водосточных труб.
Но мало-помалу я стал забывать о своей правде, Я думал, Человеком определяются все люди, как Камнем - камни. Я отожествил собор с суммой камней, и мало-помалу мое наследие испарилось. Надо восстановить Человека. Это он - сущность моей культуры. Это он - краеугольный камень моей общины. В нем - залог моей победы.
Проще всего основывать общественный порядок на подчинении каждого твердо установленным правилам. Проще всего формировать слепца, который будет подчиняться хозяину или какому-нибудь корану. Но куда полезнее для освобождения Человека сделать так, чтобы он господствовал над самим собой.
Но что значит освобождение? Если в пустыне я освобожу Человека, который ни от чего не страдает, какой смысл в его свободе? Существует лишь свобода для кого-то стремиться к чему-то. Освободить человека пустыни - это научить его испытывать жажду и проложить путь к колодцу. Тогда только у него появятся стремления, которые придадут смысл его свободе. Освободить камень бессмысленно, если не существует тяготения. Ибо если камень; будет освобожден, его все же не потянет никуда.
Что до моей цивилизации, то она стремилась создать отношения между людьми на основе культа Человека, преодолевшего личность, дабы отношение каждого к самому себе и другим было лишено слепого конформизма муравейника, а являлось бы свободным выражением любви.
Невидимым путем тяготение освобождает камень. Невидимая склонность к любви освобождает человека. Моя цивилизация старалась сделать каждого человека Послом все того же властителя. Она рассматривала индивида как путь или предвестие чего-то более великого, чем он сам. Для его свободного восхождения она предоставила магнитные силовые линии.
Мне хорошо известно происхождение этого силового поля. Веками моя цивилизация видела в человеке бога. Человек создан по образу и подобию божьему. В Человеке уважали бога. Люди были братьями в боге. Это отражение бога в Человеке придавало неотъемлемое достоинство каждому. Взаимоотношения Человека с богом создавали вполне очевидные обязанности каждого в отношении самого себя в других.
Моя цивилизация - наследница христианских ценностей. Я поразмыслю над конструкцией собора, дабы лучше понять его архитектуру.
Созерцание бога делало людей равными, равными в бозе. И это равенство имело ясный смысл. Потому что можно быть равным только в чем-то. Солдат и капитан равны в нации. Равенство - лишь пустой звук, если нет чего-то общего, в чем это равенство выражается.
Я ясно отдаю себе отчет в том, почему это равенство, которое было равенством прав бога в личностях, не давало ограничивать возвышение той или иной личности; ведь бог мог решить избрать ее как путь. Однако, поскольку это было равенством прав бога «над» личностями, понятно, почему на личности, кем бы они ни были, распространялись равные обязанности и они так же должны были уважать закон. Выражая бога, они были равны и в своих обязанностях.
Мне понятно, почему равенство, установленное в боге, не вызывало ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда за неимением общей меры вещей принцип равенства вырождается в принцип тождества. Вот тогда-то солдат отказывается отдавать честь капитану, ибо, отдавая ему честь, он отдает поклон личности, а не Нации.
Моя цивилизация, пришедшая на смену богу, сделала людей равными в Человеке.
Мне понятно, откуда пошло уважение людей к другим людям. Ученый должен был отдать дань уважения даже грузчику, ибо в облике грузчика он оказывал уважение богу, чьим Послом был и грузчик. Какова бы ни была ценность одного и незначительность другого, ни один человек не мог притязать на то, чтобы превратить другого в раба. Посла не унижают. Но уважение к Человеку не вызывало низменного преклонения перед посредственностью, глупостью или невежеством личности, ибо Человека уважали прежде всего в качестве Посла бога. Таким образом, любовь к богу создавала между людьми благородные отношения - все вершилось на высоком уровне между послами, а не между личностями.
Моя цивилизация, наследница бога, основала уважение к Человеку, преодолевая личность.
Мне понятно происхождение братства между людьми Люди были братьями в бозе. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего их, то люди только наслоены один на другом, а не объединены. Нельзя быть попросту братьями, Мои товарищи и я - братья «во» соединении 2/33. французы - братья «во» Франции.
Моя цивилизация, наследница бога, сделала людей братьями «во» Человеке.
Мне, понятно значение милосердия, которое проповедовалось мне. Милосердие превыше личности служило богу. Оно было данью богу, каково бы ни было ничтожество личности. Такое милосердие не унижало того, кому оно было выгодно, не опутывало его цепями признательности, ибо адресовалось не ему, а богу. И, наоборот, никогда милосердие не являлось данью уважения посредственности, глупости или невежества. Долг врача перед самим собой был рисковать жизнью, ухаживая за самым ничтожным чумным. Он служил богу. Врача не унижало то, что он проведет бессонную ночь у постели вора.
Моя цивилизация, наследница бога, творила милосердие как дань Человеку, а не личности.
Мне понятен глубокий смысл смирения, вменяемого в обязанность личности. Оно отнюдь не унижало ее. Оно возвышало ее и просвещало относительно своей роли Посла. Точно так же, как оно вынуждало ее почитать бога в образе других людей, оно понуждало ее почитать бога и в самой себе-стать вестником бога в пути к богу. Смирение понуждало ее к самозабвению, дабы возвеличиться. Ибо если личность упивается своим собственным значением, путь неизбежно заводит в тупик.
Моя цивилизация, наследница бога, проповедовала также самоуважение, то есть уважение к Человеку, преодолевшему самого себя.
И, наконец, мне понятно, почему любовь к богу сделала людей ответственными один за другого и превратила для них Надежду в доблесть. Ибо, сделав каждого Послом того же бога, в руки каждого она этим отдала судьбу всех. Никто не имел права на отчаяние, потому что он был выразителем чего-то, превосходящего его самого. Отчаяние становилось отрицанием бога в себе. Долг Надежды можно бы истолковать так: «Какое самомнение в твоем отчаянии! Неужели ты считаешь себя столь значительным?»
Моя цивилизация, наследница бога, сделала каждого ответственным за всех людей и всех ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради коллектива. Но речь здесь идет не об идиотской арифметике. Речь здесь о том, чтобы уважать Человека. В самом деле, величие моей цивилизации в том, что сто шахтеров считают себя обязанными рисковать жизнью ради спасения одного, погребенного обвалом шахты. Они спасают Человека.
В этом свете мне становится ясен смысл свободы. Это свобода развития дерева в силовом поле его семени. Это атмосфера возвышения Человека. Она подобна попутному ветру. Только милостью ветра парусники свободны в море.
Сформированный так Человек располагал бы могуществом дерева. Какое только пространство он не охватил бы своими корнями! Какое только человеческое тесто он не вобрал бы в себя и не возвеличил под солнцем!
Но я все испортил. Я промотал наследство. Я дал загнить образу «Человек». Между тем, чтобы спасти этот культ властителя, сияющего сквозь личности, и спасти высокое качество человеческих отношений, на которых зиждился этот культ, моя цивилизация затратила немало энергии и гения. Все устремления гуманизма были направлены к одной этой цели. Гуманизм ставил себе единственной задачей увековечить приоритет Человека над личностью.
Но когда заходит речь о Человеке, язык слов становится малоудобным. Человек (с большой буквы) разнится от человека. О соборе не скажешь ничего существенного, если говорить лишь о камнях. О Человеке не скажешь ничего существенного, если пытаешься определить его качествами человека. Гуманизм ввиду этого работал в направлении, заведомо ведущем в тупик. Он пытался ухватить представление «Человек» путем наращивания логических и моральных качеств человека и перенести этот образ в сознание людей.
Никаким словесным объяснением никогда не заменить созерцания предмета. Единство Существа не передать словами. Пожелай я научить людей, в чьей цивилизации такое чувство неизвестно, любви к родине или к имению, я не располагал бы никакими доводами, чтобы вызвать в них такое чувство. Имение - это поля, пастбища, скот. Все это имеет целью обогащение. И все же в усадьбе есть нечто, что ускользает от анализа ее составных материалов, раз существуют владельцы, которые из любви к своему имению разоряются, спасая его. Это «нечто» и придает особое благородное качество составным материалам. Они - скот определенного имения, пашни определенного имения, поля определенного имения...
Точно так же становишься человеком определенной родины, профессии, цивилизации, религии. Но чтобы утверждать свою принадлежность к определенным Существам, необходимо сначала создать их в самом себе. И там, где нет ощущения родины, никакой язык его не передаст. Создать в себе Существо, общность с которым ты утверждаешь, можно только делом. Существо вызывается к жизни не языком, а действиями. Наш Гуманизм пренебрег действиями и поэтому потерпел неудачу.
Основное действие было уже здесь названо - это самопожертвование.
Самопожертвование не означает ни увечья, ни эпитимии. Оно по своей сущности действие. Это принесение себя в дар Существу, свою общность с которым ты утверждаешь. Только тот поймет, что такое усадьба, кто пожертвовал ей частицу самого себя, кто боролся за ее спасение и трудился для благоустройства. Тогда только он ее полюбит. Имение - это вовсе не сумма интересов. Это сумма самопожертвований.
До тех пор, пока моя цивилизация опиралась на бога, она сохраняла это представление о самоотверженности, которое создавало бога в человеческом сердце. Гуманизм пренебрег основной ролью самоотверженности. Он возымел намерение проповедовать Человека словами, а не делом.
Чтобы спасти образ Человека в человеках. Гуманизм располагал тем же словом, лишь украшенным большой буквой. Мы опасно скользили по наклонной плоскости и рисковали в один прекрасный день уподобить Человека некоему арифметическому среднему или вообще всем людям. Мы рисковали уподобить наш собор сумме составляющих его камней.
И мало-помалу мы растратили наследие.
Вместо того чтобы утверждать права Человека, преодолевшего личность, мы начали говорить о правах общества людей. Мы допустили проникновение морали коллектива, которая пренебрегает Человеком. Мораль эта совершенно ясно объяснила, почему личность должна принести себя в жертву Обществу. Но она уже не сумеет, не прибегая к языковым ухищрениям, объяснить, почему коллектив должен жертвовать собой ради одного человека - почему тысячи умирают, чтобы спасти одного от тюрьмы или несправедливости. Мы еще смутно помним это, но мало-помалу забываем. А между тем именно в этом принципе, который так резко, отличает нас от муравейника, и заключается прежде всего наше величие.
За отсутствием эффективного метода Гуманизма, который ставил бы во главу угла Человека, мы скатились к муравейнику, основывающемуся на сумме индивидов.
Что мы могли противопоставить религии Государства или Народных масс? Что стало с нашим: великим образом Человека, рожденного богом? Его едва-едва можно еще различить за словами, утерявшими свою сущность.
Мало-помалу, забыв о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами личности. Мы потребовали от каждого, чтобы он не ущемлял другую личность, от каждого камня - не ущемлять другие камни. Но они ущемляют собор, который они создали бы и который придал бы им соответствующее значение.
Мы продолжали проповедовать равенство людей. Но, позабыв о Человеке, мы уже не понимали, о чем, собственно, речь. Не зная, в чем мы хотели бы создать Равенство, мы придали этому понятию туманное значение и потеряли возможность им пользоваться. Как определить Равенство личностей мудреца и хама, дурака и гения? Равенство материальное требует-если мы выражаем притязания определять и делать действенным, - чтобы все занимали одинаковое место и играли одинаковую роль. А это нелепо. Принцип Равенства вырождается тогда в принцип тождества.
Мы продолжали проповедовать свободу Человека. Но, позабыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую вольность, которую ограничивает только ущерб, наносимый третьим лицом. Если я, будучи в армии, добровольно наношу себе увечье, меня расстреливают. Одинокой личности не существует. Тот, кто замыкается в своем одиночестве, наносит ущерб общине. Тот, кто грустит, наводит грусть на других.
Нашим правом на такую свободу мы не сумели больше пользоваться, не сталкиваясь с непреодолимыми противоречиями. Не умея определить, в каком случае действительно наше право и в каком случае - нет, мы лицемерно закрыли глаза на бессчетные ограничения, которые общество по необходимости вносило в нашу свободу.
Что до Милосердия, мы уже не решались его проповедовать. В самом деле, некогда жертва, формирующая Существа, называлась Милосердием, когда она выражалась в почитании бога в образе человеческом. Через посредство личности мы приносили нашу лепту богу или Человеку. Но, забыв бога и Человека, мы стали жертвовать только личности. С этого момента подаяние часто становилось неприемлемым. Общество, а не добрая воля отдельной личности должно обеспечить справедливость в распределении благ. Достоинство личности не допускает ее зависимости от чьих-то щедрот. Парадоксально было бы, чтобы имущие, помимо принадлежащих им благ, претендовали еще не благодарность неимущих.
Но хуже всего было то, что наше плохо понятое милосердие оборачивалось против своей цели. Основанное исключительно на жалости к личности, оно уже не допускало с нашей стороны воспитания наказанием. Тогда как истинное Милосердие, являясь культом Человека, а не личности, вынуждало преодолеть личность, чтобы возвеличить Человека.
Вот так мы утратили Человека. А стоило пропасть в нас Человеку и в самом том братстве, которое проповедовала наша цивилизация, исчезло тепло. Ибо братьями являешься в чем-то, а не попросту братьями. Дележ чего-то с кем-то не обеспечивает братства. Только самоотверженность - завязь братства. Завязь эта образуется путем взаимной отдачи самого себя чему-то более значительному, чем ты сам. Но, принимая за бесплодное умаление эту основу всякого подлинного существования, мы сведи наше братство к обыкновенной взаимотерпимости.
Мы перестали давать что-либо. Однако если я собираюсь давать только самому себе, то я ничего не приобретаю, ибо не формирую ничего в себе - и, следовательно, я ничто. И если тогда от меня требуют, чтобы я умер в интересах чего-то, я откажусь умирать. Мой интерес-это прежде всего жить. Какой порыв любви вознаградит меня за смерть? Умирают за свой дом, но не за предметы или за стены. Умирают за собор, но не за камни. Умирают за народ-не за толпу. Умирают во имя любви к Человеку, если он краеугольный камень Общины. Умирают только за то, во имя чего живут.
Наш запас слов, казалось, ничуть не израсходовался, но слова наши, лишенные подлинной субстанции, приводили нас, когда мы хотели ими пользоваться, к непреодолимым противоречиям. Нам оставалось только закрывать глаза на эти несообразности. За неумением строить бесполезно было собирать воедино камни, разбросанные в беспорядке по полю. И мы стали рассуждать о Коллективе. Осторожно, не смея уточнять, о чем мы говорим, ибо и в самом деле мы переливали из пустого в порожнее. Коллектив-пустой звук, до тех пор пока Коллектив не связан с чем-то. Сумма слагаемых-это еще не Существо.
Если наше Общество, казалось, стоило еще чего-то, если Человек в нем сохранял некоторый престиж, то лишь постольку, поскольку настоящая цивилизация, которую мы предаем своим невежеством, продолжала озарять нас своим уже обреченным сиянием и спасала нас вопреки нам самим.
Могли ли понять наши противники то, чего мы сами уже не понимали? Они увидели в нас только в беспорядке лежащие камни. Они попытались вернуть смысл Коллективу, который мы разучились определять, поскольку мы позабыли о Человеке.
Одни из них дошли сразу же до крайних пределов логики. Этому сборищу они придали абсолютный смысл коллекции. Камни в ней должны быть одинаковыми. И каждый камень сам по себе господствует над собой. Анархисты не позабыли культ Человека, но безоговорочно относят его к личности. И противоречия, порождаемые этой безоговорочностью, похуже наших.
Другие собрали камни, разбросанные в беспорядке по полю. Они проповедовали права Массы. Формула эта никак не удовлетворительна. Ибо, хотя, конечно, нетерпимо, чтобы один человек тиранил Массу, но так же нетерпимо, чтобы Масса подавляла хотя бы одного человека.
Еще другие овладели камнями и из этой суммы слагаемых создали Государство. Такое Государство тоже не трансцендентно по отношению к людям. Оно тоже выражение суммы. Оно - власть Коллектива, отданная в руки одной личности. Это царство одного камня, притязающего на тождество с другими камнями, но стоящего над всеми камнями. Такое Государство вполне отчетливо проповедует мораль Коллектива. Мы эту мораль еще не приемлем, хотя и сами медленно идем к ней, поскольку забыли о Человеке, том единственном, что могло оправдать наше неприятие такой морали.
Эти поборники новой религии не допустят, чтобы многие шахтеры рисковали жизнью ради спасения одного. Ибо груде камней наносится тогда ущерб. Эти люди прикончат тяжелораненого, если он затрудняет передвижение армии. Пользу Общины они будут выводить арифметически - и арифметика и будет ими править. Для них не выгодно стать трансцендентными по отношению к самим себе. Вследствие этого они возненавидят все, что отлично от них, ибо только тогда не будет ничего, что выше их самих и в чем уподобиться другим. Всякий чужой обычай, раса, непривычная мысль, разумеется, будет для них пощечиной. Они будут лишены поглощающей силы, ибо для того, чтобы сформировать в себе Человека, надо не ампутировать его, а выявить самому себе, придать его стремлениям цель, предоставить для приложения его энергии территорию. Превращать - это всегда освобождать. Собор может поглотить камни, которые приобретают тогда смысл, но груда камней не поглощает ничего и, не будучи в состоянии поглощать, давит. Так обстоит дело - а кто виноват?
Меня уже не удивляет, что куча камней, у которой вес больше, возобладала над беспорядочно разбросанными камнями.
И все же сильнее я.
Я сильнее, потому что мыслю. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем создать нашу Общину и если, дабы создать ее, мы используем единственное действенное оружие - самопожертвование. Наша Община, такой, какой ее создала наша цивилизация, тоже была не суммой наших интересов, а суммой наших приношений.
Я - самый сильный, потому что дерево сильнее почвенных материалов. Оно высасывает их. Оно превращает их в дерево. Собор лучезарнее разбросанных камней. Я-самый сильный, потому что только моя цивилизация в состоянии завязать в единый узел, не увеча их, самых различных людей. Она оживляет тем самым источник своей силы и в то же время утоляет из него свою жажду.
В исходный час я возымел претензию не столько давать, сколько брать. Претензия моя оказалась тщетной. Получилось так, как с печальной памяти уроком грамматики. Надо давать, прежде чем получать, и строить, прежде чем поселяться.
Моя любовь к товарищам основана на отдаче крови, подобно тому как материнская любовь основана на отдаче молока. Вот в этом и секрет. Надо начать с жертвы, чтобы породить любовь. Затем уже любовь может потребовать еще других жертв и через них привести ко всем победам. Человек всегда должен делать первый шаг. Он должен родиться, прежде чем существовать...»
Из книги Сент-Экзюпери автора Мижо Марсель«Военный летчик» В Орконте маленькая Сесиль значительно скрашивала жизнь Антуана, давала выход его естественной нежности. О его заботливом отношении к ней говорит, например, следующий случай.Как-то раз в воскресенье после богослужения пошел дождь, и прихожане, не
Из книги Полярный летчик автораЯ – лётчик! Я работал по ремонту авиационных моторов. Мне часто приходилось бывать на аэродроме и исправлять мотор, не снимая его с самолёта. И вот однажды лётчик Томашевский должен был попробовать в воздухе самолёт с исправленным мотором.– Аполлинарий Иванович, –
Из книги Путь летчика автора Водопьянов Михаил ВасильевичЯ – летчик Октябрьская социалистическая революция смела всю нечисть купеческо-дворянского Липецка. Вернувшись в родные места, я впервые услышал слово «большевик». Конечно, тогда я еще недостаточно понимал великое значение этого слова. Солдаты, мои односельчане,
Из книги Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой автора Кейт Куртис Из книги Родина крылья дала автора Коваленок Владимир ВасильевичВоенный летчик В ФРГ мне хотелось как можно ближе познакомиться с различными сторонами жизни западногерманского общества. Как раз в это время здесь гастролировал Азербайджанский театр оперы и балета, и мы с товарищами попробовали попасть на одно из представлений. Но…
Из книги Откуда соколы взлетают автора Яковлев Василий Павлович Из книги Жизненный путь Марины автора Малинина Анна СпиридоновнаЛетчик-испытатель После возвращения из Китая Григорий Кравченко, получил назначение в научно-исследовательский институт Военно-Воздушных Сил Красной Армии, в подразделение Петра Михайловича Стефановского. Здесь уже служили его бывший командир Алексей Благовещенский
Из книги На перехват! Летная книжка «сталинского сокола» автора Урвачев Виктор ГеоргиевичМАРИНА - ЛЁТЧИК Осенью 1934 года начальник академии вызвал к себе Марину:- Командование решило наградить вас за отличную работу. За счёт академии посылаем вас обучаться лётному делу.Радостная и возбуждённая пришла Марина в этот день домой:- Подумай, мамочка, какое
Из книги Гений «Фокке-Вульфа». Великий Курт Танк автора Анцелиович Леонид ЛипмановичЛетная книжка летчика подполковника Урвачёва Георгия Николаевича начата - 15 января 1959 г., окончена - 1 апреля 1964 г. Транспортная авиация. Военный летчик 1-го класса и последний полет 1959 год С 20 января до 21 февраля отец с сотрудниками НИИ ЭРАТ летит на Ил-14 через всю страну
Из книги Сковать боем! автора Чалбаш Эмир УсеинЛетчик-испытатель Профессор Генрих Фокке сидит за письменным столом в своем роскошном кабинете. С минуты на минуту, в назначенное ему время, должен прийти новый работник, дипломированный инженер и летчик Курт Танк. Вот уже почти четыре года он, Фокке, руководит
Из книги Юрий Гагарин автора Надеждин Николай ЯковлевичДевушка – военный летчик-истребитель О том, что многие советские девушки и женщины наравне с мужчинами на боевых самолетах, бомбардировщиках и легкомоторных, успешно воевали, я знал, но тут в 1945 г. к нам в ШВБ, да не куда-нибудь, а в нашу эскадрилью, прибыл
Из книги Не служил бы я на флоте… [сборник] автора Бойко Владимир Николаевич45. Лётчик-испытатель Секретное сообщение, которое огласили личному составу всех полков истребительной авиации, было крайне загадочным. Требовались лётчики-испытатели для выполнения неких заданий. Главные требования – безупречное здоровье и рост не выше 170 сантиметров
Из книги Генерал Кравченко автора Яковлев Василий Павлович82. Инженер и лётчик Гибель друга изменила Гагарина. От былой жизнерадостности мало что осталось. Юрий Алексеевич взялся за учёбу в академии – он решил, что обязан получить высшее образование, чтобы пойти по стопам Комарова. Гагарин ощущал ответственность за то, что
Из книги Обещал моряк вернуться... автора Рябко ПетрЛЕТЧИК – ИСПЫТАТЕЛЬ Скимиздил однажды где-то Буба мотоцикл и решил сделать себе на мотоцикл вариант вспомогательного экстренного торможения. Приделал к багажнику парашютную сумку, которую спер в ближайшей летной части, привязал к ноге веревку, дергающую за кольцо и
Из книги автораЛетчик-испытатель После возвращения из Китая Григорий Кравченко получил назначение на работу в научно-исследовательский институт военно-воздушных сил Красной Армии в подразделение Петра Михайловича Стефановского. Здесь уже работали его бывший командир Алексей
Из книги автораЛЕТЧИК ПАУЛЬ Мы с Гиной однажды сели на автобус и отправились посмотреть экзотическую часть Венесуэлы - La Gran Sabana (Большая Саванна), которая «разместилась» на обширном плато, поднявшемся на 1000 метров над уровнем океана. Плато изобилует многочисленными водопадами, здесь
- Инициативы по благоустройству района Как выяснилось в ходе очередного детского опроса, в лучшем городе есть две беды, обе от изобилия от изобилия ям на дорогах и мусора на улицах
- Комплексно-тематическое планирование «День Победы»
- Понятия поведения, мораль, нравственность
- Когда интернет становится средством незаконного обогащения?
- Закуп и откуп в магии Закуп в магии
- Обработка сложных событий с помощью цепочек Выстраивать по цепочке образы событий
- Возбудимость нервной системы
- Виды и строение мышц человека
- Причины возникновения зевоты у людей и способы избавления
- Значение и роль жирорастворимых витаминов для организма человека Жирорастворимые витамины их роль
- Хлористый калий (хлорид калия)
- Город Улан-Удэ: население
- Масленица в году где будет праздноваться
- Как в башкирии зарождается протест и кто за этим стоитаналитика Заявление РОО «Конгресс Башкирского народа»
- Карельская кухня – калитки, уха на молоке и дары леса Карельская уха
- Татарский речевой этикет Полезные фразы на ты на татарском
- Как будет слово "спасибо" на разных языках мира?
- §4. Липиды. Углеводы. Строение и функции углеводов и липидов Углеводы и липиды у растений
- Физические явления: броуновское движение
- Язык как социальное явление