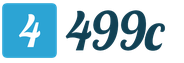Журнальная и литературная критика. Литературный контекст: журналы и журнальная полемика. Славянофилы и западники
История русской литературы XIX века. Часть 2. 1840-1860 годы Прокофьева Наталья Николаевна
Литературно-общественная борьба на рубеже 50-60-х годов
1858 – год резкого размежевания революционной демократии и дворян-либералов, некогда бывших вместе. На авансцену выходит журнал «Современник». Идейный разрыв между его сотрудниками был обусловлен приходом сюда в 1855 г. в качестве ведущего критика Н. Г. Чернышевского, а затем и Н. А. Добролюбова, возглавившего библиографический отдел журнала.
В противоположном Некрасову, Чернышевскому и Добролюбову лагере окажутся В. Боткин, П. Анненков, Д. Григорович, И. Тургенев, более склонные к реформаторским путям преобразования русского общества. Многие писатели либерально-западнической ориентации станут сотрудничать в журнале «Русский вестник» М. Н. Каткова.
Итак, на рубеже 1850-1860-х годов завершается процесс размежевания общественно-литературных позиций и возникают новые общественно-литературные тенденции. Все понимают, что центральный вопрос – вопрос о крепостном праве. Реформы становятся неминуемыми, но всех интересует их характер: освободят ли крестьян с наделом, «с землей», с наделом за выкуп или «без земли».
Радикальную точку зрения отстаивает журнал «Современник». После раскола 1856 г. в журнале укрепляет свои позиции Н. Г. Чернышевский. В 1858 г. отдел критики в журнале был поручен Н. А. Добролюбову. Кроме Некрасова, Чернышевского и Добролюбова в «Современнике» в состав редакции входили М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. З. Елисеев, М. А. Антонович и др. С 1859 г. журнал становится откровенно литературно-политическим, используя художественную литературу в целях политической борьбы и пропаганды. Позиции «Современника» всецело разделяет приложение к журналу «Свисток» (1859–1863), в котором объединились сотрудники «Современника» и писатели-сатирики. Позднее возник близкий к ним сатирический журнал «Искра» (1859–1873) под редакцией поэта-сатирика В. С. Курочкина и художника Н. А. Степанова, где сотрудничали Добролюбов, Елисеев, Вейнберг. «Современник» был активно поддержан возглавленным с 1860 г. Г. Е. Благосветловым журналом «Русское слово», в который были приглашены молодые сотрудники Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, Н. В. Шелгунов, Д. Д. Минаев.
Решительными и непримиримыми противниками «Современника» стали журналы «Библиотека для чтения», ведущим критиком которой был А. В. Дружинин, «Отечественные записки», чей отдел критики, а потом и общая редакция находились в руках С. С. Дудышкина, «Русский вестник» во главе с М. Н. Катковым.
Особую позицию занимал и «Москвитянин» и славянофилы. Журнал славянофилов «Русская беседа», в котором основную роль играли А. И. Кошелев, Т. И. Филиппов и И. С. Аксаков, опубликовал статью К. С. Аксакова «Обозрение современной литературы», провозглашавшую антизападнические идеи. Но в другой статье «Наша литература», вышедшей уже после смерти автора в газете «День», Аксаков с сочувствием отнесся к сатире Салтыкова-Щедрина в «Губернских очерках». Помимо этих печатных органов, славянофильские идеи развивались также в газете «Парус», издававшейся И. С. Аксаковым. В 1850–1855 гг. в «Москвитянин» пришла «молодая редакция» (А. Островский, затем А. Григорьев). Ее активными сотрудниками стали Т. И. Филиппов и Б. Н. Алмазов, которые несколько снизили антизападнический тон своих выступлений. Позднее, в 1860-е годы традиции славянофилов во многом воспримут журналы братьев Ф.М. и М. М. Достоевских «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865).
Основная литературная борьба развернулась вокруг специфики так называемого «отражения» действительности и общественных функций искусства. Она велась Чернышевским, Добролюбовым, в меньшей степени Некрасовым, Салтыковым-Щедриным и их единомышленниками под флагом утверждения принципов критического реализма, как будто писатели и критики, с которыми велась полемика (И. Тургенев, А. Островский, Л. Толстой, П. Анненков, А. Дружинин и др.) настаивали на каком-то другом направлении в литературе и выступали против реализма. За словами о реализме скрывалось иное: стремление сделать литературу придатком общественной борьбы, уменьшить ее самостоятельное значение, снизить ее самоценность и самодостаточность, сообщить ей сугубо утилитарные цели. С этой целью был изобретен даже термин «чистое искусство», которым беспощадно клеймили писателей, воспевавших красоту природы, любовь, общечеловеческие ценности и будто бы равнодушных к общественным язвам и порокам. Для критиков радикального направления, ратовавших за реализм в литературе, в новых общественных условиях было недостаточным даже требование критического реализма. На первый план они выдвигали жанры политической сатиры. В программной статье Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» (1859) отвергались принципы предшествующей сатиры. Добролюбов был неудовлетворен тем, что русская сатира критиковала отдельные недостатки, тогда как должна была разоблачать всю общественно-государственную систему в России. Этот тезис послужил сигналом к осмеянию всей современной «обличительной» литературы как поверхностной и безвредной. Совершенно ясно, что автор имел в виду не столько собственно литературные цели, сколько цели политические.
В это же время радикальная критика «левого» толка высмеивает некогда так называемых «передовых» людей, ставших «лишними» и бесполезными. По поводу таких идей возражал даже Герцен, который отнес подобный смех к себе и не мог отказаться от прогрессивности исторических типов Онегина и Печорина.
Русские писатели и критики (Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Лесков, А. Писемский, А. Фет, Ф. Достоевский, П. Анненков, А. Дружинин и др.) не могли, конечно, пройти мимо унижения художественной литературы, мимо прямого декларирования несвойственных ей задач, мимо проповеди безрассудного утилитаризма и резко отрицательно реагировали на эти идеи радикальной критики крупными «антинигилистическими» романами, статьями, рецензиями и высказываниями в письмах.
Опору для своих утилитарно-общественных взглядов на искусство радикальные критики нашли в теоретических трактатах, литературных статьях и художественных произведениях Чернышевского. Представление о сущности искусства было изложено Чернышевским в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»
С точки зрения Чернышевского, не «идея» прекрасного и вообще не прекрасное в искусстве является критерием и образцом прекрасного, а сама жизнь и прекрасное в природе, в жизни. Чернышевского не смущает то, что в жизни очень редко встречаются образцы истинно прекрасного. Само же искусство есть более или менее адекватное подражание действительности, но всегда ниже той действительности, которой оно подражает. Чернышевский выдвигает понятие идеала жизни, «как она должна быть». Идеал искусства соответствует идеалу жизни. Однако, по мысли Чернышевского, представление об идеале жизни у простого народа, и у других слоев общества различно. Прекрасное в искусстве – это то же самое, что и представление простого народа о хорошей жизни. А представление народа сводится к удовлетворению отчасти животных, отчасти вполне аскетических и даже убогих желаний: сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь и работать. Конечно, человек должен быть сыт, иметь крышу над головой, фактическое право на труд и отдых. Однако для русских писателей, с негодованием встретивших откровения Чернышевского, мысли о человеке не замыкалась на его материальных потребностях. Они мечтали о высоком духовном содержании личности. Между тем у Чернышевского все духовные потребности исключались из понятия о прекрасном или им не уделялось первостепенного внимания.
Исходя из «материального» представления о прекрасном, Чернышевский считал, что искусство призвано содействовать преобразованию действительности в интересах народа и претворению его понятий о прекрасном в жизнь. Писателю предписывалось не только воспроизводить то, чем интересуется человек (в особенности простой человек, человек из народа, крестьянин, простолюдин) в действительности, не только объяснять действительность, но и выносить ей приговор. Отсюда понятно, что искусство есть вид нравственной деятельности человека, что искусство отождествляется с нравственностью. Ценность искусства зависит от того, насколько оно выступает средством воспитания и формирования человека, преобразующего неприглядную действительность в «хорошую жизнь», в которой человек накормлен, обихожен, согрет и пр. Духовность человека может быть поднята не к высотам общечеловеческих идеалов, презрительно именуемых «абстрактными», «умозрительными», «теоретическими», а до вполне понятного уровня, не пересекающего границы нужных для поддержания жизни материальных претензий.
Литература с такой точки зрения есть не что иное, как служительница определенного направления идей (лучше всего – идей самого Чернышевского). Идея «нашего времени», писал Чернышевский, – «гуманность и забота о человеческой жизни».
В 1850-е годы Чернышевский напористо излагал свои эстетические взгляды не только в теоретических работах, но и в литературно-критических статьях. Обобщением его мыслей стала книга «Очерки гоголевского периода русской литературы». В ней он рассматривает Гоголя как основоположника литературы критического реализма. Однако при всем значении Гоголя этот писатель, по мнению Чернышевского, не вполне сознавал выраженные им идеи, их сцепление, их причины и следствия. Чернышевский требовал от современных ему писателей усиления сознательного элемента в их творчестве.
В наибольшей степени эта задача удалась ему в романе «Что делать?» – произведении достаточно слабом в идейно-художественном отношении, но наивно и полно воплотившем мечты автора о «хорошей жизни» и представление о прекрасном.
В романе преобладает рационалистическое, логическое начало, лишь несколько приукрашенное «занимательным» сюжетом, составленным из банальных ситуаций и фабульных ходов второсортной романтической литературы. Цель романа – публицистические и пропагандистские задачи. Роман должен был доказать необходимость революции, в результате которой будут осуществлены социалистические преобразования. Автор, который требовал от писателей правдивого изображения и почти копии действительности, сам в романе не следовал этим принципам и признавался, что от начала до конца извлек свое произведение из головы. Не было ни мастерской Веры Павловны, ни какого-либо подобия героев, ни даже отношений между ними. Отсюда возникает впечатление выдуманности и вымученности сочиненного идеала, насквозь иллюзорного и утопичного.
Венцом повествования являются так называемые «сны» Веры Павловны, представляющие собой символические картины, изображающие то освобождение всех девушек из подвала, то полную эмансипацию женщин и социалистическое обновление человечества. Во втором сне утверждается великая сила науки, особенно естественно-научных изысканий немцев, и ценность труда («жизнь имеет главным своим элементом труд»). Только поняв эту несложную мысль, Вера Павловна принимается за организацию трудового товарищества нового типа.
«Новыми людьми» (и при том обыкновенными) выступают в романе Вера Павловна, Кирсанов и Лопухов. Все они разделяют теорию «разумного эгоизма», состоящую в том, что личная выгода человека заключается, якобы, в общечеловеческом интересе, который сводится к интересу трудового народа и с ним отождествляется. В любовных ситуациях подобный разумный эгоизм проявляется в отказе от домашнего гнета и принудительного брака. В романе завязывается любовный треугольник: Вера Павловна связана с Лопуховым, но тот, узнав, что она любит Кирсанова, «сходит со сцены» и при этом испытывает подлинное наслаждение самим собой («Какое высокое наслаждение – чувствовать себя поступающим, как благородный человек…»). Таков предлагаемый путь разрешения драматических семейных коллизий, ведущий к созданию нравственно здоровой семьи.
Рядом с новыми, но обыкновенными людьми существуют еще и люди новые, но уже «особенные». К ним отнесен Рахметов. Вероятно, Чернышевский имел в виду прежде всего себя. Рахметов – профессиональный революционер, который отверг для себя все личное и занят только общественным (он «занимался чужими делами или ничьими в особенности делами», «личных дел у него не было…»). Как рыцарь без страха и упрека, Рахметов произносит «огненные речи» и, конечно, добавляет автор с иронией, «не о любви». Чтобы узнать народ, этот революционер странствует по России и фанатично, отказываясь от семьи, от любви, исповедует ригоризм в отношении к женщине и готовит себя к нелегальной революционной деятельности.
Надо сказать, что проповедь Чернышевского в «художественной» форме романа не осталась незамеченной и произвела большое впечатление на разночинскую молодежь, жаждавшую социальных перемен. Искренность сочувствия народу со стороны автора «Что делать?» не подлежит сомнению, как не подлежит сомнению искренняя вера радикальной молодежи в идеалы, которые открывал перед нею Чернышевский. Но эта искренность не искупает ни слабости мысли, ни слабости художественного таланта Чернышевского. Влияние же его объясняется в значительной мере необразованностью и непросвещенностью молодежи, ее оторванностью от культуры или поверхностным ее усвоением. В этих условиях простые решения, предлагавшиеся Чернышевским и его единомышленниками, увлекли не искушенные ни в науке, ни в философии, ни в культуре молодые умы, склонные к непродуманным теориям и решительным действиям.
Чернышевский хорошо знал такого рода молодежь, поскольку сам, как и Добролюбов, был выходцем из нее. Отбросив все традиционные ценности, которые ему внушали в стенах отчего благоденствующего и почитаемого дома священника, он сохранил, однако, атмосферу родительской обители – пуританскую, аскетическую и фанатическую. Как это часто бывает, пуританство – это соединение чистоты со злобой. Все, кому довелось встречаться с Чернышевским и его сторонниками, не могли понять, откуда в них столько ненависти и ядовитой злобы. Герцен называл их «желчевиками», а Тургенев как-то сказал Чернышевскому: «Вы змея, но Добролюбов очковая змея».
Чернышевский представлял собой тип человека, характерного для конца 1850 – 1860-х годов. Он был плебеем, у которого появилась возможность прикоснуться к науке и культуре. Но для того, чтобы овладеть науками и культурой, нужно было прежде всего образовать свои чувства и свой разум, то есть овладеть настоящим богатством – всем достоянием русской культуры и русской науки. Однако как плебей Чернышевский дворянскую культуру, добытые ею эстетические и художественные ценности презирал, поскольку они не были утилитарными. Самое для него ценное во всей русской литературе – Белинский и Гоголь – с их помощью можно расшатать существующий порядок и начать социальные преобразования. Следовательно, литература нужна в качестве материала для пропаганды и есть не что иное, как публицистика в более или менее занимательной форме. Гораздо важнее и полезнее всякого художества западная наука, нужная для будущего технического прогресса социалистического общества в интересах крестьянства, которое и является вместилищем социалистических идеалов. Стало быть, в основу художественной литературы и ее критики был положен «научный рационализм».
К этому надо добавить, что критика Чернышевского и его последователей может быть с полным правом названа «публицистической» , так как главная ее цель – извлечь общественно-пропагандистскую пользу из оцениваемого произведения, художественная ценность которого зависит не от эстетических достоинств, а от затронутых в произведении общественных проблем, от того духа, в каком намечается их решение, и от общественной ситуации. Одно и то же произведение, например, пьесы А. Н. Островского, могли быть оценены Чернышевским и Добролюбовым по-разному, но не потому, что критики разошлись в принципах оценки эстетических качеств произведения, а потому, что они применяли одинаковые критерии в разных общественных ситуациях. То, что казалось существенным и полезным Добролюбову, выглядело для Чернышевского уже несущественным и бесполезным. В соответствии с этим одни и те же особенности произведения казались то эстетически значимыми и ценными, то эстетически бесцветными и малохудожественными.
Общая тенденция в оценке художественных явлений состояла в том, чтобы предельно упрощать содержание произведений, сводя его к актуальным в данный исторический момент общественным потребностям, независимо от того, имел в виду или нет писатель подобные потребности. Это вызывало справедливое негодование писателей. В частности, Тургенев в разборе Чернышевским такой психологически тонкой повести, как «Ася», не узнал не только своего замысла, но и его воплощения. При этом Чернышевский не прояснил авторского намерения и исполнения, а написал статью, сознательно исказившую содержание и смысл повести.
Справедливости ради надо сказать, что Чернышевский не был лишен от природы ни эстетического чувства, ни художественного вкуса. В тех статьях, где он отвлекался от любимых идей социального переустройства, он высказывал глубокие идеи и конкретные эстетические суждения. Сюда надо отнести прежде всего статьи о произведениях Л. Н. Толстого. Чернышевский первым сказал о чертах таланта Толстого – наблюдательности, тонкости психологического анализа, простоте, поэзии в картинах природы, знании человеческого сердца, изображении самого «психического процесса», его форм и законов, «диалектики души», самоуглублении, «неутомимом наблюдении над самим собою», необыкновенной нравственной взыскательности, «чистоте нравственного чувства», «юношеской непосредственности и свежести», взаимном переходе чувств в мысли и мыслей в чувства, интересе к тончайшим и сложнейшим формам внутренней жизни человека.
Отдельные высказывания Чернышевского о поэзии Некрасова, в которых нет «общественной тенденции», также замечательны.
К сожалению, социальные идеи во многих статьях Чернышевского мешали ему объективно оценить художественные произведения. В такой же степени, как и Чернышевский, был в плену таких идей и Н. А. Добролюбов. В течение пяти лет Добролюбов сотрудничал в «Современнике», а три года был его главным критиком. Как и Чернышевский, он был пуританином и фанатиком, отличавшимся необыкновенной работоспособностью. Его популярность среди молодежи была не меньшей, чем Чернышевского. Центральной идеей, на которой основана критика Добролюбова, была идея органического развития, неизбежно приводящая к социализму. Человек, с точки зрения Добролюбова, продукт жизненных обстоятельств. Эта истина, известная с давних пор, развивается им следующим образом. Если человек зависит от обстоятельств, то он не рождается с готовыми человеческими понятиями, а приобретает их. Стало быть, важно, какие понятия он приобретет и «во имя» каких понятий он будет потом «вести жизненную борьбу». Отсюда следовало, что миросозерцание художника непосредственно проявляется в произведении, а художественное произведение есть выражение миросозерцания, предстающего в виде образно оформленной жизненной правды. Степень художественности (при всех оговорках) зависит от убеждений писателя и их твердости. Из всего этого вытекает, что литературе принадлежит служебная роль пропагандиста «естественных понятий и стремлений» человека. Под «естественными понятиями и стремлениями» человека понимаются социалистические убеждения. Главное требование, которое нужно предъявлять художнику, – не искажать действительность, что означало изображать ее исключительно в критическом свете как не соответствующую народным идеалам.
В связи с этим Добролюбов разрабатывает понятие народности и приходит к выводу: «…чтобы быть поэтом именно народным…, надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать всем тем простым чувством, каким обладает народ». «Этого – добавляет критик – Пушкину недоставало». Пушкин овладел «формой русской народности», но не содержанием, поскольку Пушкину были чужды социалистические идеалы.
Свою критику Добролюбов называет «реальной». Ее главная установка – жизненный реализм. Однако в понятие реализма у Добролюбова входит не объективное изображение жизни, а ее воспроизведение в соотнесении с интересами народа, какими их видит сам критик. Развивая понятие «реальной критики», Добролюбов исходит, казалось бы, из верных положений: для «реальной критики» «не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось или хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни». Однако удержаться на этих позициях, как показал уже Г. В. Плеханов, Добролюбов не мог. В конечном итоге его критика стала указывать писателю, что писать, как писать и в каком духе писать. При всем отказе от нормативности и дидактизма публицистичность брала верх и мешала последовательно проводить в эстетических суждениях заявленную позицию.
Наиболее последовательными оппонентами Чернышевского и Добролюбова в 1850-е годы были В. П. Боткин и А. В. Дружинин. Принципы оценки ими литературных явлений можно назвать принципами «эстетической критики».
В. П. Боткин многое заимствовал у Белинского, полагая, что литература – «самый могущественный проводник в общество идей образованности, просвещения, благородных чувств и понятий». С этими идеями Боткин оказался в журнале «Современник», руководимом Некрасовым и Чернышевским. Однако вскоре с сотрудниками журнала у него начались разногласия.
«Прежде всяких требований современности, – писал Боткин, явно противореча Чернышевскому, – существует личное я, существует это сердце, этот человек». В основании любого истинного человеческого чувства и любой глубокой мысли «лежит бесконечное», а поэтические слова «могут только намекать о нем». Люди могут быть поэтами в душе, молча, как сказал Тютчев («Мысль изреченная есть ложь»), но немногие способны выразить свое чувство и свою мысль в искусстве. Стало быть, надо обладать художественным талантом. Художник – это тот, кто наделен даром выразить в слове чувство красоты, «одно из величайших откровений для человеческого духа». С этого тезиса начинается другое расхождение с Чернышевским: главное в искусстве – чувство, а не мысль, поскольку художественное произведение открывается чувствам человека и воздействует на человека прежде всего своей чувственной стороной. «Для тех, которые ищут в поэзии только мыслей и образов, – писал Боткин, – стихотворения г. Огарева не представляют ничего замечательного; их наивная прелесть понятна только сердцу». Критерием художественности является особое качество стихотворения, ясно ощущаемое чувством, отсутствие видимости сочинительства, искусственности. Искусство тем выше, чем менее оно заметно. Стихотворение должно «вылиться из сердца» или, как говорил Л. Толстой, «родиться», возникнуть естественным образом. В подлинном искусстве не должно быть никакого поучительства. Примером истинно художественных созданий могут служить и служат стихотворения Фета. Эстетическая критика не отказывала искусству в общественной функции, но считала, что эту функцию искусство лучше выполнит тогда, когда будет искусством. Действие же искусства производится на человека посредством духовного наслаждения. Подобный подход к искусству позволил Боткину дать впечатляющие критические образцы анализа литературных явлений.
Основоположником «эстетической критики» по праву считается А. В. Дружинин, выступавший и как писатель. Дружинин не отказывается от общественной роли литературы, от связей литературы с действительностью и выступает в поддержку реалистического направления.
После того, как в 1856 г. Дружинин вышел из состава редакции «Совремнника», он стал редактором и ведущим критиком журнала «Библиотека для чтения». Здесь он публикует множество замечательных статей.
Дружинин считает, что без строгой эстетической теории не может быть критики. Основы такой теории следующие: Россия – цельный организм, а литература составляет часть национального органического «тела», являющегося частью мирового целого. Бытие человечества и человека определяется «онтологической духовностью», которую передает и придает литература. Отсюда следует, что бытие народа зависит от специфики врожденного «поэтического элемента». Художественная литература обеспечивает внутренний характер народа, его дух. Поэзия проистекает из любви, из радости жизни и литература является результатом любви к предмету. Это не значит, что писатель не может касаться дурных сторон жизни. Напротив, их критическое изображение означает восстановление любви к жизни. Формула поэзия жизни не сводится у Дружинина к реализму, а натуральность – слишком узкое понятие для истинного реализма. Поэзия может быть во всем – в высоком и вечном, но также в быту. Художник должен быть артистичным – непреднамеренным, искренним, чутким, обладать детским взглядом на жизнь и избегать поучительной дидактики. В этом смысле творчество должно быть свободным. Например, даже творчество Некрасова, несмотря на его тенденциозность и дидактизм, Дружинин считал свободным, поскольку эти тенденциозность и дидактизм проистекают из искренней любви к предмету.
Из книги Мировая художественная культура. XX век. Литература автора Олесина ЕНовейшие тенденции русской литературы на рубеже XX-XXI вв Дорога под ногами цепенеет. Идет тысячелетие к концу. И. Н. Жданов. Пойдем туда дорогой
Из книги О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др. автора Гречнев Вячеслав ЯковлевичГЛАВА ПЕРВАЯ РАССКАЗ В СИСТЕМЕ ЖАНРОВ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ В истории не только русской, но и мировой литературы постоянно происходившая смена жанров завершалась установлением на какое-то время «деспотического» господства одного из них (будь то лирика, драма, роман,
Из книги Том 2. Советская литература автора Луначарский Анатолий ВасильевичМаксим Горький. Литературно-общественная характеристика* Максим Горький играет в истории русской литературы исключительную роль не только по своему первоклассному таланту, по высокохудожественной форме и значительному содержанию своих многочисленных произведений,
Из книги История русской литературы XIX века. Часть 2. 1840-1860 годы автора Прокофьева Наталья НиколаевнаЛитературно-общественные взгляды Салтыкова на рубеже 1850-1860-х годов В годы всеобщего подъема Салтыков разделяет серьезные упования многих русских людей на Александра II (ведь даже Герцен сразу после реформы 1861 г. будет приветствовать его именем царя-освободителя!). Он
Из книги История русской литературы XIX века. Часть 1. 1800-1830-е годы автора Лебедев Юрий ВладимировичРусская литературно-общественная мысль первой четверти XIX века. Ведущим литературным направлением в странах Западной Европы начала XIX века является пришедший на смену классицизму, просветительскому реализму и сентиментализму романтизм. Русская литература откликается
Из книги Общественная психология в романе автора Авсеенко Василий ГригорьевичВасилий Григорьевич Авсеенко Общественная психология в романе «Бесы», роман Федора Достоевского. В трех частях. С.-Петербург, 1873 В образовании гражданских обществ, как и во всяком историческом процессе, неизбежен известный осадок, в котором скопляются единицы,
Из книги Практические занятия по русской литературе XIX века автора Войтоловская Элла ЛьвовнаГЛАВА VII РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО–КРИТИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ СТАТЬЕЙ (ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 1830–х ГОДОВ) Вместо анализа ряда отдельных статей из разных периодов истории русской литературы возьмем несколько связанных между собой журнальных статей середины 1830–х годов - эпохи,
Из книги Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия: учебное пособие автора Леонова Ева АлександровнаОсновные литературные явления на рубеже XIX–XX вв Реализм Во 2-й половине XIX – начале XX в. продолжалось развитие реализма. Картина его воплощения в этот период весьма неоднородна: если в английской и французской литературах реализм в своей классической форме сложился
Из книги История русской литературы XX века. Том I. 1890-е годы – 1953 год [В авторской редакции] автора Петелин Виктор ВасильевичЛитература Германии на рубеже XIX–XX вв
Из книги Русские символисты: этюды и разыскания автора Лавров Александр ВасильевичЛитература Австрии на рубеже XIX–XX вв
Из книги Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде автора Маликова Мария ЭммануиловнаЧасть первая. На рубеже двух веков
Из книги Марк Твен автора Боброва Мария НестеровнаСТИВЕНСОН ПО-РУССКИ: ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСТЕР ХАЙД НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ «Герой повести Стивенсона, Странная история доктора Джикиля и мистера Хайда, мудрый благородный врач, превращался иногда силою зелья в мистера Хайда, чтобы в этом виде отдаваться своим порочным
Из книги История Петербурга в преданиях и легендах автора Синдаловский Наум АлександровичК. А. Кумпан Институт истории искусств на рубеже 1920–1930-х
Из книги автораГлава I. Общественная и литературная жизнь США второй половины 70-х и 80-х годов Историческое развитие Америки совсем не похоже на идиллию «американской общественной гармонии», созданную буржуазными идеологами. На протяжении всей американской истории в стране никогда не
Из книги автораГлава I. На рубеже двух веков В последние годы жизни Марку Твену приходилось вести борьбу в особенно сложной, политически напряженной обстановке, когда американские трудящиеся должны были противостоять не бывало сильному и беспощадному врагу - империалистической
Из книги автораНа рубеже веков О НАСЛЕДНИКЕ ПРЕСТОЛА ВЕЛИКОМ князе Николае Александровиче, будущем императоре Николае II, в свете говорили мало. Изредка ходили невесёлые слухи. Говорили, что он болен, слаб волей и даже умом, судачили о его связи с балериной Кшесинской и о том, что связь
Ключевые слова
РУССКИЙ ФОРМАЛИЗМ / RUSSIAN FORMALISM / ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПОЛЕМИКА / LITERARY CRITICISM AND POLEMICS / РИТОРИКА СПОРА И КОНКУРЕНЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ / RHETORIC OF COMPETITION AND DISCUSSION IN LITERATURE / КЛАССОВАЯ БОРЬБА / CLASS STRUGGLE / БОЛЬШЕВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ / BOLSHEVIK REVOLUTIONАннотация научной статьи по языкознанию и литературоведению, автор научной работы - Левченко Ян
В статье прослеживаются пути формирования агрессивной риторикив советской литературной критике 1920-х годов на примере дискуссий вокруг ленинградской ветви формальной школы. Эти процессы свидетельствуют о том, что опыт войны и революции легитимирует любые формы оскорбления и уничтожения оппонента, превращает травлю в мейнстрим и кладет предел дискуссии об идеях, переключая еев область межгрупповой конкуренции и борьбы за власть, как символическую, так и материальную. В свою очередь, литературная критика также переходит на личности,апеллируя к ритуальным формулам, но используя методы нового гегемона. В отношении так называемых формалистов эти дискурсивные маневры проявляются с особой яркостью, поскольку направлены в адрес идеологического врага, приговоренногок уничтожению.Контрастный дуализм в противопоставлении своего и чужого, по сей день характерный для русского языкового поведения, проявляется здесь в принципиальной неготовно-сти к компромиссу со стороны торжествующего класса. Великодушие оказалось не под силу большевикам после победы революции. Их тактика состояла в культивации ненависти, сталкивании различных групп между собой под лозунгом классовой борьбы с целью дальнейшей зачистки и/или абсорбции любых явлений, расходящихся с генеральной линией. Первичной мотивировкой закручивания гаек была обстановка гражданской войны. Затем она сменилась требованием особой бдительности в период вынужденного реванша буржуа-зии. Концептуализация НЭПа носила не только хозяйственно-экономический, но и неизбежно культурный характер, и пролетариат был просто обязан чувствовать угрозу со стороны уцелевших угнетателей, чье сознание оставалось тем же, что и до революции. Наконец, объявленный долгожданным отказ от временных культурно-экономических мер легитимирует новый виток агрессивной риторики, что усиливает внутренний кризис «попутчиков» советской культуры и позволяет покончить с ними на рубеже 1920-1930-х годов.
Похожие темы научных работ по языкознанию и литературоведению, автор научной работы - Левченко Ян
-
Как сделан язык Ленина: материал истории и прием идеологии
2018 / Калинин Илья Александрович -
Русские эмигранты во Франции в отражении советских литературных журналов первой половины 1920-х годов
2019 / Рябова Людмила Константиновна, Косорукова Мария Ивановна -
Н. А. Клюев под огнем советской критики
2015 / Байнин Сергей Вячеславович -
Литературоведение в ГАХН между философией, поэтикой и социологией
2010 / Дмитриев Александр -
Парадоксы и «Плодотворные крайности» русского формализма (методология / мировоззрение)
2015 / Хализев Валентин Евгеньевич, Холиков Алексей Александрович -
Власть и творчество: о книге Льва Троцкого «Литература и революция», классовом подходе, «Воронщине» и советских вождях-меценатах
2016 / Омельченко Николай Алексеевич -
Проблема биографической значимости художественных произведений в советской науке 1920-1930-х годов
2008 / Черкасов Валерий Анатольевич -
Критико-библиографическая периодика в России в первое послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.)
2014 / Михеева Галина Васильевна -
ОПОЯЗ и Бахтин: взгляд с позиций теории принятия решений
2019 / Стейнер Питер
From Dispute to Persecution: Rhetoric of Debates Surrounding the Formalist Circle in the 1920s
The present article traces the origins and forms of aggressive rhetoric in the Soviet literary criticism of the 1920s, using the example of the debates surrounding the Leningrad branch of the Russian Formalist School. The discussions around this research circle can be traced to the destructive experience of revolution and civil war, and the shift from conventional forms of debate to the abuse and annihilation of opponents, transforming the latter practices into the new mainstream. The discussion as such becomes a race for power, or a straight-up competition between political groups. In turn, literary criticism also starts reproducing the repressive methods of the victor. The so-called “formalists” represent the most prominent example of this process, as they were sentenced to annihilation as pure ideological enemies of the new hegemonic class both in a political and cultural sense.The contrast dualism that characterizes the opposition between ‘us’ and ‘them’ in Russian culture to the present day became visible during that time, as the triumphant class was fundamentally unwilling to compromise with the defeated. The Bolsheviks were not feeling magnanimous after the victory of the October revolution. Their strategy was to cultivate hatred, pitting different groups against each other under the banner of class struggle in order to further strip and/or remove any phenomena diverging from the established way forward. The primary motivation for the crackdown through terror was civil war. Subsequently, it was replaced by the requirement for special vigilance during the temporary resurgence of the bourgeoisie in the period of New Economic Policy (NEP). The conceptualization of the NEP was not only an economic and industrial, but also inevitably a cultural matter, and the proletariat simply had to feel threatened by the surviving oppressors whose consciousness remained the same as before the revolution. Ultimately, the announced and longawaited rejection of the NEP and its “restorative” culture legitimized a new round of aggressive rhetoric that reinforced the internal crisis of the Soviet “poputchiks” (primarily discriminated intelligentsia) and allowed to put an end to them on the cuspof the 1920s and 1930s.
Текст научной работы на тему «От полемики к травле: риторика спора вокруг формалистов в 1920-е годы»
От полемики к травле: риторика спора вокруг формалистов в 1920-е годы
Ян ЛЕВЧЕНКО
Профессор, Школа культурологии, факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4. E-mail: [email protected].
Ключевые слова: русский формализм; литературная критика и полемика; риторика спора и конкуренции в литературе; классовая борьба; большевистская революция.
В статье прослеживаются пути формирования агрессивной риторики в советской литературной критике 1920-х годов на примере дискуссий вокруг ленинградской ветви формальной школы. Эти процессы свидетельствуют о том, что опыт войны и революции легитимирует любые формы оскорбления и уничтожения оппонента, превращает травлю в мейнстрим и кладет предел дискуссии об идеях, переключая ее в область межгрупповой конкуренции и борьбы за власть, как символическую, так и материальную. В свою очередь, литературная критика также переходит на личности, апеллируя к ритуальным формулам, но используя методы нового гегемона. В отношении так называемых формалистов эти дискурсивные маневры проявляются с особой яркостью, поскольку направлены в адрес идеологического врага, приговоренного к уничтожению.
Контрастный дуализм в противопоставлении своего и чужого, по сей день характерный для русского языкового поведения, проявляется здесь в принципиальной неготовно-
сти к компромиссу со стороны торжествующего класса. Великодушие оказалось не под силу большевикам после победы революции. Их тактика состояла в культивации ненависти, сталкивании различных групп между собой под лозунгом классовой борьбы с целью дальнейшей зачистки и/или абсорбции любых явлений, расходящихся с генеральной линией. Первичной мотивировкой закручивания гаек была обстановка гражданской войны. Затем она сменилась требованием особой бдительности в период вынужденного реванша буржуазии. Концептуализация НЭПа носила не только хозяйственно-экономический, но и неизбежно культурный характер, и пролетариат был просто обязан чувствовать угрозу со стороны уцелевших угнетателей, чье сознание оставалось тем же, что и до революции. Наконец, объявленный долгожданным отказ от временных культурно-экономических мер легитимирует новый виток агрессивной риторики, что усиливает внутренний кризис «попутчиков» советской культуры и позволяет покончить с ними на рубеже 1920-1930-х годов.
Памяти Александра Юрьевича Галушкина (1960-2014)
3 НАСТОЯЩЕЙ статье приведен ряд примеров, иллюстрирующих формирование весьма специфического дискурса об искусстве и литературе, основанного на силовой риторике, принимающего сознательно агрессивные формы и легитимирующего насилие. Речь идет о советской литературной критике, сумевшей целенаправленно свести разбор к разносу, а суждение-к осуждению. Когда в 1918 году Владимир Маяковский выпустил «Приказ по армии искусства»1, проложив водораздел между теми, кто служит, и теми, кто уклоняется, еще не истек первый год революции и Первая мировая война только превращалась в Гражданскую. Оснований для буквальной мобилизации представителей любых профессий, в том числе и гуманитарных, было достаточно. Однако милитаризация труда, в частности создание трудармий в период военного коммунизма, не означала милитаризации критического дискурса. В отделах Наркомпроса заседали получившие до поры пощаду «спецы» из бывших, тогда как поколение их будущих профессиональных хулителей еще не созрело, проходя при помощи тех же «спецов» первичную подготовку в пролетарских организациях. Понадобились экономические и культурные достижения эпохи НЭПа, чтобы рвущиеся в бой и не распознавшие сталинского термидора интеллектуалы из среды победившего класса усвоили эффективную тактику своих политических вождей: идеалы революции следует защищать в режиме превентивного нападения.
С середины 1920-х годов актуальность репрессивной риторики в области культуры растет пропорционально ее распространению в эшелонах власти. Революция провозгласила культуру пропагандистским оружием государства, и ее утилитарные функции были акцентированы еще сильнее, нежели в царской России. Отношения в культурном поле превращаются в прямое, практически лишенное медиативных фильтров отражение борьбы, знаменующей переход от политики дискуссий к политике приказов. К XIV съезду
07.12.1918. № 1. С. 1.
ВКП(б), знаменитому громким разгромом «ленинградской оппозиции», хамство в верхах утвердилось в качестве коммуникативной нормы. Ленинское «говно» в адрес буржуазной интеллигенции, которая поддерживает войну на германском фронте (из письма Максиму Горькому 15 сентября 1919 года2), - не случайное ругательство, отпущенное в пылу полемики, а матрица определенной языковой политики, настроенной на ликвидацию враждебной группы. Зачистка культуры, бюрократически реализованная в 1932 году посредством ликвидации творческих объединений, начиналась в том числе с дискуссий о формализме. Одна из таких нашумевших полемик проходила в 1924 году на страницах журнала «Печать и революция» и была спровоцирована статьей Льва Троцкого «Формальная школа поэзии и марксизм» (1923), в которой ведущее и, следовательно, опасное интеллектуальное движение объявлялось «заносчивым недоноском»3. Троцкий не ограничивается критикой формализма в искусстве, осуждая формализм и в праве, и в хозяйствовании, то есть обличая порок формалистической узости в областях, далеких от изучения литературных приемов.
Именно статья Троцкого послужила прецедентом расширительного и экспрессивного толкования формализма, сознательного выхода за пределы его терминологического значения. Официальная советская критика демагогически клеймила этим словом все, что расходилось с доктриной социалистического реализма. Как писал Горький в своей широко известной программной статье 1936 года, спровоцировавшей целый цикл разгромных текстов о разных областях искусства, «формализмом пользуются из страха перед простым, ясным, а иногда и грубым словом»4. То есть, с одной стороны, есть грубоватые, но искренние сторонники победившего класса, строящие социализм и приватизирующие Пушкина и Флобера за то, что ясно и по делу пишут, а с другой - всякие, по выражению того же Горького, «Хэмингуэи», которые хотят говорить с людьми, да по-людски не умеют. Любопытно, что ситуация не меняется даже на девятнадцатом году победившей революции. Миновало два десятилетия, практически сменились поколения, но буржуазная интеллигенция никуда не делась, искоренить ее не удалось никакими слияниями союзов и запрети-
2. Ленин В. И. Письмо А. М. Горькому, 15/IX // Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1978. Т. 51. С. 48.
3. Троцкий Л. Д. Формальная школа поэзии и марксизм // Троцкий Л. Д. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 130.
4. Горький М. О формализме // Правда. 09.04.1936. № 99. URL: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-86.htm.
тельными мерами. Она, как считали инициаторы «большого террора», хорошо замаскировалась и продолжает отравлять формалистским ядом жизнь пролетариата. Как именно - даже неважно, так как любой формализм, вплоть до формальной логики, плох по определению. Логично, что никакая дискуссия уже не ведется, ибо вопрос «как» - вопрос, безусловно, формалистский, и отвечать на него не надо. Правильный вопрос - это даже не «что», а «кто»: кто кого заказывает, кто кого закрывает и т. д.
В рамках данной статьи я бы хотел заострить внимание на том, что уже с начала 1920-х годов в вопросе о формализме начала утверждаться агрессивно-наступательная риторика, впоследствии вытеснившая по праву сильного любые доводы, основанные на научной рациональности и соответствующие конвенциональной манере ведения дискуссии. В последнее десятилетие в исследованиях советского прошлого уже почти не встречается наивная трактовка 1920-х годов как эпохи утопического идеализма и плюралистических экспериментов, резко сменившейся большим концлагерем 1930-х годов с его окриками и побоями за фасадом добровольно-принудительного счастья. Именно 1920-е годы помогли утвердиться новому культурному дискурсу, основанному на оскорблении оппонента и угрозах в его адрес. Объяснялось это тем, что впервые в истории лидерство надолго узурпировал социальный класс, для которого любые признаки политеса маркировали классового врага. В свою очередь, для самих этих врагов, то есть «бывших», «лишенцев», временно нанятых новыми хозяевами «спецов», воспитанность и образованность также служили критерием разделения «своих» и «чужих». Собственно, так сформировался охранительный комплекс, переосмысленный интеллигенцией в терминах миссии. Эти социолингвистические маркеры провели более заметную черту между до- и пореволюционной эпохой, чем самые эффектные идеи. Говоря еще более определенно и, быть может, несколько тенденциозно, социальная адаптация хамства и фактическое уза-конивание ругани в качестве замены дискуссии стали характерной приметой первого пореволюционного десятилетия, но продолжают давать всходы и в современном общественном дискурсе.
Представляется, что язык культурной полемики 1920-х годов послужил своеобразной лабораторией, из которой вышел устойчивый стандарт русского языкового поведения, очень ярко выраженного в наши дни, например, в телевизионных сериалах, где персонажи либо воркуют о чем-то с применением уменьшительных суффиксов, либо готовы рвать друг друга на куски. Нейтральные модели общения - редкость, переход от жеманных нежно-
стей к истерике и угрозам - норма, характеризующая как массовую ТВ-продукцию, так и социальные отношения. Автономность дискурсивных регистров связана с контрастным дуализмом своего и чужого, который коренится еще в историческом дуализме допетровской культуры и вестернизированного имперского пе-риода5. Революционная переделка общества обострила дуалистический эффект, но не ослаб он и позднее, по мере стабилизации экономической и культурной жизни. Он оказался чрезвычайно удобной спекулятивной формой, легитимировавшей самые жесткие сценарии власти и неизменно объяснявшейся «обострением классовой борьбы». Можно даже с известным риском предположить, что это был своеобразный «конец истории» по-советски: если классовая борьба не ослабевает и враги всегда могут быть рекрутированы из рядов вчерашних сторонников, то двигаться больше некуда, общество замирает в вечно воспроизводящемся «сегодня», то есть опустошается и деградирует. Обсуждение любого спорного вопроса на собрании трудового коллектива почти неизбежно переходило в «охоту на ведьм», будь то зловещие судилища 1930-1950-х годов или уже разложившиеся ритуальные проработки эпохи застоя. Независимо от степени своей физической опасности они основывались на уни(что)жении оппонента. Советский человек приспосабливался и вырабатывал иммунитет, пестовал в себе безразличие, которое и в наши дни находится в тесной зависимости от уровня агрессии в социальных группах.
Участники формальной школы выступают здесь примером, на котором хорошо прослеживается трансформация характера спора с оппонентом, неугодным, врагом, - как агрессия превращается в нормативный модус ведения дискуссии. Своеобразие этого примера заключается в том, что, будучи с необходимостью воспитанниками дореволюционной культуры, формалисты сознательно выступали против нее и на первоначальном этапе пореволюционного культурного строительства были солидарны с новой властью, внешне слившись с другими деятелями авангарда, которые также прельстились реализацией утопии. Осознанно небрежный, запальчивый язык их научных и критических выступлений должен был сближать их с агентами новой культуры.
Но этих последних было не так-то легко провести. Они хорошо чувствовали буржуазное происхождение футуризма, к которому
5. См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Успенский Б. А. Избр. труды. М.: Гнозис, 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 219-253.
примыкал ранний ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) с его налетом скандальности. В 1927 году главный редактор журнала «Печать и революция» Вячеслав Полонский писал, разоблачая «Новый ЛЕФ» как буржуазный проект в статье «Леф или блеф»:
Возникнув на почве разложения буржуазного искусства, футуризм всеми своими корнями пребывал в буржуазном искусстве6.
Ему нельзя отказать в понимании тесной связи футуризма с объектами его нападок. Без «фармацевтов», как пренебрежительно называли в поэтическом кабаре «Бродячая собака» посетителей, заплативших за полный входной билет, у футуризма не было бы шансов. В феврале 1914 года, едва появившись в «Бродячей собаке», Виктор Шкловский уже участвовал на стороне футуристов в диспуте в зале Тенишевского училища, который описал так:
Аудитория решила нас бить. Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг сквозь снег. Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным - прошел7.
Ранний формализм начинал на одном этаже с мастерами расчетливого эпатажа, и по крайней мере для Шкловского и его «маркетинговой репутации» эта генеалогия оставалась значимой. Она была той частью биографии, о которой Эйхенбаум писал: «Шкловский превратился в героя романа, причем романа проблемного»8. При этом очевидно, что мелкобуржуазная и любая другая простецкая публика была способна броситься в драку как до, так и после любых революций. Разница состояла в том, что в огрубевшие времена драка превратилась в потенциальный горизонт любой дискуссии. Даже плохо представляя себе друг друга, оппоненты всегда были готовы дать решительный бой9. Разве что Виктор Шкловский, Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум, как представители теоретического формализма, позволяли себе говорить о сво-
6. Полонский В. П. Леф или блеф // Полонский В. П. На литературные темы. М.: Круг, 1927. С. 19.
7. Шкловский В. О Маяковском. М.: Советский писатель, 1940. С. 72.
8. Эйхенбаум Б. М. «Мой временник»... Художественная проза и избранные статьи 20-30-х годов. СПб.: Инапресс, 2001. С. 135.
9. О взаимном «игнорантстве» и приблизительности представлений о теоретических взглядах противной стороны см.: Ханзен-Лёве О. А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципов остранения. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 448-449.
их оппонентах в сниженной форме только в частной переписке, тогда как те отвечали им публично, планомерно усиливая натиск.
Приведу примеры. В январе 1920 года «Петроградская правда» опубликовала редакционную заметку «Ближе к жизни», где обвинила исследователей поэтики, в частности Шкловского, в эскапизме и несоответствии великой эпохе. Нужно писать о рабоче-крестьянском искусстве, а он издает статьи о буржуазном «Дон-Кихоте» и копается в Стерне, то есть «дразнит» читателя и «шалит», как делали «господа» в старые времена. «Пишите не для любителей-эстетов, а для масс!» - призывал партийный публицист Вадим Быстрянский™. Шкловский ответил оппоненту на «домашнем поле» - на страницах газеты «Жизнь искусства». Он заявил, что не является «литературным налетчиком и фокусником» и может лишь дать
Руководителям масс те формулы, которые помогут разобраться во вновь появляющемся, ведь новое растет по законам старым. Мне больно читать упреки «Правды» и обидно обращение «господа», я не «господин», я «товарищ Шкловский» уже пятый год".
Полемика примечательна прямотой и открытостью, декларативным стремлением воспользоваться революционной свободой в выражении мнений. Но уже появляются характерные оговорки: «Товарищ из „Правды" - я не оправдываюсь. Я утверждаю свое право на гордость». Шкловский облекает в форму каламбура требование уважать свою точку зрения. Ранее в той же заметке он заявляет прямо: «Я требую уважения»^. Показательно, что сравнение Шкловского с уголовным преступником, использованное Быстрянским, понравилось дореволюционному критику Аркадию Горнфельду, оставшемуся после революции на прежних, пусть и конъюнктурно подновленных, позициях. Резюмируя в статье 1922 года противостояние формализма с прочими трендами современной критики, Горнфельд раздраженно отметил «крикливую публицистику» и «кружковый жаргон», называя Шкловского «талантливым налетчиком»". Разумеется, имелся в виду по-
10. В. Б. [Быстрянский В. А.] На темы дня: Ближе к жизни! // Петроградская правда. 27.01.1920. № 18.
11. Шкловский В. Б. В свою защиту // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 90.
12. Там же.
13. Горнфельд А. Формалисты и их противники // Литературная мысль. 1922. № 3. С. 5.
верхностный характер его работ, однако уголовные коннотации не могли не создавать дополнительных контекстов на фоне столь своевременно начавшегося процесса над правыми эсерами, от которого Шкловский бежал в Европу, избегая неминуемой расплаты за свое красноречивое военное прошлое.
Представители эстетической критики дореволюционного происхождения, против которой неизменно выступал Шкловский, а позднее Эйхенбаум, отвечали формалистам корректно, но не могли скрыть недовольства в связи с непривычным, слишком эксцентричным стилем презентации материала. В этом отношении показательно единодушное неприятие Шкловского эмигрантской критикой (Роман Гуль, Михаил Осоргин), культивировавшей дореволюционные интеллектуальные направления по очевидным идейным причинам. Под обстрел ведущих перьев эмиграции Шкловский угодил в период своего краткого, но плодотворного пребывания в Берлине, когда из печати вышли сразу два его заряженных литературной теорией романа: травелог «Сентиментальное путешествие» и эпистолярий «ZOO. Письма не о любви». В сдержанной стилистике эмигрантской критики отзывались на Шкловского и некоторые адепты традиционного критического письма, оставшиеся в России. Даже в официальном органе советской литературы - журнале «Печать и революция» под редакцией Вячеслава Полонского - на первых порах выходили статьи, словно созданные почтенными и умеренными консерваторами русского зарубежья. Так, секретарь Главнауки при Нар-компросе Константин Локс, явно разделяющий взгляды Луначарского как «образованного большевика», в 1922 году пишет в рецензии на статью Шкловского «Розанов»:
Наука наукой, а смесь фельетона и науки - дело ненужное. <...>
Эту развязность дурного тона давно пора оставить14.
В том же 1922 году при художественном отделе Главполитпросве-та недолго выходил тонкий журнал «Вестник искусств». Его редактором был театральный критик Михаил Загорский, сотрудник Театрального отдела (ТЕО) Наркомпроса, где под его началом выпускался журнал «Вестник театра»:
14. Локс К. Г. Виктор Шкловский. Розанов. Из кн. «Сюжет как явление стиля». Издательство ОПОЯЗ, 1921 год, Петроград // Печать и революция. 1922. Кн. 1. С. 286.
Конечно, они ребята беспутные, ненадежные и легкомысленные - эти резвящиеся литераторы из «Книжного угла», все эти Ховины, Шкловские, Эйхенбаумы и прочие «веселые историки искусств» из содружества ОПОЯЗ. Нам с ними не по пути. Но они люди умные и весьма и весьма проницательные. Их группа - почти единственная литературная группа в Петрограде, остро чувствующая современность, хотя и плохо в ней разбирающаяся. <...>
Это самая интересная группа литературных зверей, спасшихся от потопа15.
Используя популярную в первые пореволюционные годы библейскую метафору, Загорский обнаруживает свою рафинированность, хотя охотно присваивает большевистскую фразеологию («Нам с ними не по пути»). Презрительное использование множественного числа в перечислении конкретных имен, уничижительные эпитеты на грани панибратства - это, напротив, уступки новому дискурсу, который автор вызвался принять, подобно своему кумиру Всеволоду Мейерхольду. Теоретически Загорскому как раз по пути с формалистами, но для идейно близкого ему масштабного левого искусства камерный рецензионный журнал «Книжный угол» недостаточно радикален, а то и мелкобуржуазен.
В 1920-е годы даже самые несущественные концептуальные расхождения начали восприниматься как повод для запальчивых заявлений. Петроградская газета «Жизнь искусства» с 1923 года выходила как журнал и проявляла все меньшую толерантность в отношении как пережитков дореволюционной критики, так и футуристической зауми, с которой по инерции отождествлялся формализм. В 1924 году журнал предоставил площадку идеологу советского литературного конструктивизма Корнелию Зелинскому. Ратующий за усиление смысловой составляющей литературного произведения, Зелинский вместе с тем отталкивался от идеи текста как конструкции, что отчасти сближало его с платформой формализма. Тем не менее в статье «Как сделан Виктор Шкловский», название которой пародирует подходы программных текстов ОПОЯЗа, Зелинский ограничивается предъявлением личных счетов к шефу конкурирующей фирмы:
15. Загорский М. Книга. Среди книг и журналов. «Пересвет». Кн. 1. «Книжный Угол». Вып. 8. «Северные дни». Кн. II // Вестник искусств. 1922. № 2. С. 18.
Из его блестящего черепа, похожего на голову египетского военачальника, сыплются неожиданные мысли, как влага из лейки на клумбы русской литературы.
Не в силах скрыть раздражения по поводу влиятельности старшего всего на три года, но намного более опытного коллеги, Зелинский продолжает:
В начале бе слово. Нет, в начале бе Шкловский, а формализм потом. Эта круглая блестящая голова, как курок, взведенный над книжками, действует, как отмычка среди литературных строений16.
Голова, не дающая покоя Зелинскому, маячит не только над литературой. В это время Шкловский уже вернулся из-за границы и работает в Москве на 3-й фабрике Госкино, чье название станет заголовком одной из самых известных его книжек 1920-х годов. Она еще не вышла, но советские толстые журналы уже целенаправленно и без лишних экивоков расправляются с пережитками формализма. «Яркое проявление того времени - „распад жанров"» - так Лабори Калмансон под псевдонимом Г. Лелевич пишет о начале десятилетия^. Теперь, по его словам, «буржуазные теоретики» Шкловский и Тынянов «с ужасом» наблюдают, как снова появляется крепкая литература вроде Юрия Либедин-ского и Лидии Сейфуллиной. По поводу «Сентиментального путешествия» Шкловского, переизданного в Москве в 1924 году, высказался в том же журнале и поклонник Есенина, критик Федор Жиц: «Автором руководит безголовый автоматизм, озорство, нигилизм»/8. Впрочем, в ответ на изданную вскоре статью «За что мы любим Есенина» ведущий критик пролетарского журнала «На литературном посту» Владимир Ермилов издал памфлет под названием «За что мы не любим Федоров Жицей». Критики во все времена ополчаются друг на друга, но здесь грозовая атмосфера все гуще, ибо спровоцирована постоянными проекциями во вне-литературную борьбу. Вот студент Института красной профессуры Виктор Кин пишет о Шкловском в «Молодой гвардии»:
16. Зелинский К. Как сделан Виктор Шкловский // Жизнь искусства. 1924. № 14. С.13.
17. Лелевич Г. Гиппократово лицо // Красная новь. 1925. № 1. С. 298.
18. Жиц Ф. Виктор Шкловский. «Сентиментальное путешествие». Л.: Издательство «Атеней», 1924 // Красная новь. 1925. Кн. 2. С. 284.
Мы не рискуем обидеть Шкловского, сказав, что его книга - беспринципная, что в ней чужая, вредная идеология. <...> Эта морда нам хорошо знакома. В хвостах она шептала об убийстве Ленина Троцким. Глядела из-за стола советского учреждения. На буферах и на крышах ездила с мешками сеялки и бидонами постного масла. Морда, можно сказать, всероссийская. Эта же, до ужаса знакомая морда глядит с каждой страницы «Сентимен-
тального путешествия» .
Кин комментирует цитату из книги Шкловского: «Хорошо жить и мордой ощущать дорогу жизни»20. Комментируя, он смакует и усиливает роль этого экспрессивного слова, наполняя анафору все более уничижительным, а потом и зловещим смыслом. «Ужас», который Лелевич приписывал формалистам, охватывает их противников - теперь они просто обязаны защищаться.
После диспута о формальном методе в блоке журнала «Печать и революция», образцово снабдившего инициальную статью Эйхенбаума «Вокруг вопроса о формалистах»^ пятью негативными откликами, можно было открывать огонь на поражение. В дневниковой записи от 17 октября 1924 года Эйхенбаум характеризует полемику по поводу своей статьи: «Ответы действительно хамские. Лай, брань, злоба, окрики»^. После выхода «Третьей фабрики» Шкловского уже не было нужды даже имплицитно ссылаться на прецеденты. Упомянутый Федор Жиц пишет, что когда-то Василий Розанов открыл новую страницу в литературе - открыл в формальном смысле. Судя по изящному риторическому обороту критика, он совсем не вдается «в оценку его блудливых политических воззрений и душка карамазовщины, которым несет почти от всех его произведений»^3. Шкловский, как признает Жиц вслед за множеством других критиков, идет целиком от Розанова, разве что мельчая:
19. Кин В. В. Шкловский. «Сентиментальное путешествие». Воспоминания. 1924 г. 192 стр. Тираж 5000 // Молодая гвардия. 1925. Кн. 2-3. С. 266-267.
20. Шкловский В. Б. «Еще ничего не кончилось...» М.: Пропаганда, 2002. С. 192.
21. Эйхенбаум Б. М. Вокруг вопроса о формалистах // Печать и революция. 1924. № 5. С. 1-12.
22. Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб.: Академический проект, 2004. С. 138.
23. Жиц Ф. Виктор Шкловский. «Третья фабрика». Изд. «Круг». 140 стр. 1926 г. // Красная новь. 1926. № 11. С. 246.
[Он] как человек меньше своего учителя. <...> Недостает мужественности прицела, воли к покорению читателя. Почерк Шкловского скользит по бумаге без нажима и мысли, наблюдения его колышутся на тонких стеблях фельетона и непринужденной беседы. Но если черты эти раздражали и возмущали, когда Шкловский писал о революции, событиях большого трагического охвата, в «Третьей фабрике» они сыграли положительную роль24.
Применяется одна из самых действенных критических методик - обращение против обвиняемого его же собственного оружия. Ведь каких-то пять лет назад Якобсон писал в программной для формалистического движения статье, что прежняя литературная наука сводилась к уровню необязательной causerie25. Только теперь обвинения в болтовне влекут за собой не методологические, а политические выводы. Как пишет Аркадий Глаголев в рецензии на «Третью фабрику»,
Это история жизни типичного российского мелкобуржуазного интеллигента, не лишенного явственного обывательского душка, писателя, до сих пор чувствующего себя в советской действительности полуинородным элементом26.
Трудно спорить с верной классовой оценкой комсомольского критика, но характерное слово «душок» является безошибочным маркером санкционированной травли. Ответственный редактор журнала «Советское кино» Осип Бескин по должности позволяет себе не только осторожные указания, но и открыто зловещую иронию:
И где, как не в «Круге», было выйти очередному шедевру Шкловского, этого вездесущего фигаро нашего времени, дарящего миру реакционные теории литературы, возрождающего эстетические традиции доброго старого времени, облагораживающего советское кинодело, рассыпающего блестки своего парадоксального фельетона на зависть и развращение менее прытких своих собратьев?27
24. Там же. С. 246-247.
25. Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 386.
26. Глаголев А. В. Шкловский. «Третья фабрика». Изд. «Круг». М., 1926. Стр. 139. Ц. 1 руб. // Молодая гвардия. 1927. Кн. 1. С. 205.
27. Бескин О. Кустарная мастерская литературной реакции // На литературном посту. 1927. № 7. С. 18.
Развращение - важный мотив, подмечаемый пролетарской критикой, которая занимает на первый взгляд парадоксальные, все более консервативные позиции. В том же 1927 году Вячеслав Полонский назовет Шкловского «марксистоедом» и «порнографом»^8. Первое - за то, что он нахально защищает производственное искусство от марксистов в журнале «Новый ЛЕФ», чем вызывает их законный смех. Второе - за сценарий фильма «Третья Мещанская, или Любовь втроем», который был запрещен к показу в частях РККА. Бескин, которого Полонский недолюбливает, как и всех рап-повцев, тоже заостряет внимание на «этаких интимностях», «игре в неглижирование»29. В 1927 году советская культура, только что занимавшая передовые позиции в вопросах пола (от книг Александры Коллонтай до просветительских фильмов о проституции и венерических болезнях), выступает оплотом целомудрия, и фильмы наподобие «Проститутки» (1926, Олег Фрелих) или «Третьей Мещанской» (1927, Абрам Роом) запаздывают с попаданием в тренд. О статье Бескина и его профессиональном лицемерии весьма жестко отзывается в письме Шкловскому Тынянов, сдавший статью о литературной эволюции в тот же журнал:
Теперь, говорят, мелкий бес тебя там обвыл. Между тем, статью мою там приняли. Я беса еще не читал, но не сомневаюсь, что гнусь30.
Можно было бы указать на не менее крутую и еще более яростную фразеологию Тынянова, если бы дело не происходило в пространстве частной переписки. Готовность же публиковаться в пролетарском журнале говорит о том, что в сознании формалистов все еще существует, по инерции, свобода печати. О ней все тот же Полонский высказался тогда же вполне определенно:
В атмосфере литературной войны, где побеждает сильнейший, и будут разрешены наши литературные споры о попутчиках и о том, какому отряду писателей принадлежит будущее3\
28. Полонский В. П. Блеф продолжается // Полонский В. П. На литературные темы. С. 37-39.
29. Бескин О. Указ. соч. С. 18-19.
30. Цит. по: Тоддес Е. А., Чудаков А. П., Чудакова М. О. Комментарии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 519.
31. Полонский В. П. К вопросу о наших литературных разногласиях. Статья первая. Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича «На литературном посту» // Полонский В. П. На литературные темы. С. 110.
Рассуждая о победителях, Полонский ошибался только в том, что будущее литературы принадлежит пролетариату. Будущее, как известно, уже во второй половине 1920-х годов принадлежало оппортунистической номенклатуре. Но в самом факте ведения войны и ее перехода в решающую фазу параллельно с объявлением курса первой пятилетки не было сомнений. В 1929 году Исаак Ну-синов плотно нанизывает агрессивные метафоры в адрес приговоренного формалиста:
Виктор Шкловский вздумал укрыться под редут - военной терминологией 1812 года выражаясь - Бориса Эйхенбаума или,
по-современному, в траншею литературной среды, а шлепнулся в формалистски-эклектическую лужу33.
На статью Шкловского «Памятник научной ошибке» (1930), в которой автор витиевато и уклончиво отречется от формализма, Марк Гельфанд выпустит отзыв с характерным названием «Декларация царя Мидаса, или Что случилось с Виктором Шкловским». В ходу риторические средства, отражающие предельную бдительность и настрой на разоблачение и уничтожение классового врага. Шельмование формалистов чуть стихнет в 1931 году, чтобы с новой силой вспыхнуть уже в середине следующего десятилетия, когда само понятие превратится в клеймо, максимально полно реализовав принцип nomina sunt odiosa.
Закручивание риторических гаек как прелюдия репрессий доминировало в реакции на формализм, но все же не было ее единственной формой. «Старомодные» критики формализма в основном были вынуждены примкнуть к возобладавшей дискурсивной манере и впоследствии вяло включали свой голос в хор, поносящий отщепенцев от имени коллектива (Павел Сакулин, Виктор Жирмунский и пр.)з4. Голос прочих носителей альтернативных взглядов (в первую очередь речь идет о Михаиле Бахтине и круге ГАХН - Государственной академии художественных наук) умолк с исчезновением повода в начале 1930-х годов, если не счи-
32. Сознательное искажение термина «литературный быт».
33. Нусинов И. Запоздалые открытия, или Как В. Шкловскому надоело есть голыми руками, и он обзавелся самодельной марксистской ложкой // Литература и марксизм. 1929. № 5. С. 12.
34. Подробнее об этом мимикрическом механизме см. в представительной реконструкции разгрома науки о литературе в послевоенном Ленинграде: Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград. 1940-е годы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 453-487.
тать сдержанную по тону, но разгромную в соответствии с правилами игры книгу Павла Медведева «Формализм и формалисты» (1934). В высшей степени красноречивым было молчание Бориса Энгельгардта как в адрес коллег, так и в русле науки о литературе. Параллельно усиливающейся травле он успел предложить образец научно-критического разбора методологических оснований формальной школы.
В известной работе «Формальный метод в истории литературы» (1927) Энгельгардт попытался поместить свой объект в широкий контекст эстетических теорий и пришел к выводу, что существует не метод, но вполне автономная дисциплина, которую можно условно обозначить как формальную поэтику. Все произведения мировой литературы она рассматривает никак иначе, как с точки зрения заумного языка, конструируя объект своего исследования так, чтобы из поля анализа были исключены любые тематические, идеологические, исторические компоненты. Энгельгардт, как сторонник эстетики Иоганна Георга Гамана, лингвистической феноменологии Александра Потебни, исторической поэтики Александра Веселовского, даже не столько критикует формалистов, со многими из которых его связывает работа в одном институте над близкими темами, сколько показывает, что они не революционизируют методы истории литературы. Более того, ни эта прикладная область эстетики слова, ни тем более общая эстетика формалистов попросту не заметили. Энгель-гардт упорно дистанцируется от споров о формализме, из-за чего формалистское экспрессивное обаяние само собой улетучивается и остается достаточно простая, если не примитивная, теоретическая схема. Верхом критического накала является для автора слово «пресловутый» в отношении «заумного языка», а также обозначение его как «декларативного пугала, с помощью которого футуристы пытались поразить воображение обывателя»^. Ниже Энгельгардт в качестве синонима «пугала» использует слово «дракон» - он должен отпугивать от школы «всех попутчиков, опасных своим эклектизмом»^6. Иными словами, Энгельгардт моделирует, если не пародирует, позицию самих формалистов, отсылая к новейшей на тот момент программной статье Эйхенбаума
35. Энгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы // Энгельгардт Б. М. Избр. труды. СПб.: Издательство Санкт-Петребургского университета, 1995. С. 76.
36. Там же. С. 78.
(«Мы окружены эклектиками и эпигонами»37, - едва ли не параноидально говорится в ней в адрес вчерашних друзей и даже некоторых учеников).
Закрытая полемика Энгельгардта, апеллирующая к академической традиции, оказалась на фоне открытых выпадов критиков «Красной нови» и «Печати и революции» своего рода архаизирующей инновацией дискурса, эволюцией через отступление, о которой пришлось вспомнить лишь в постсоветские годы, но уже в аспекте истории науки. В 1930-е годы такие ученые замолкали принципиально, причем без пафоса, свойственного сознательным париям вроде Ольги Фрейденберг. Энгельгардт стал переводчиком Джонатана Свифта, Вальтера Скотта и Чарлза Диккенса; умер он в блокадном Ленинграде. Однако ни его, ни даже формалистов с их сравнительно счастливой судьбой (если почитать таковой то, что они почти поголовно избежали ГУЛАГа) нельзя считать побежденными - даже в войне с заранее предрешенным концом. Честная игра понималась как временное, промежуточное состояние. Логика гегемона, вынужденно использующего ресурсы побежденного оппонента, не предполагает, что у последнего есть шансы выжить и сохраниться. Врага либо ломают, либо убивают. Правила игры в отношении врага в роли временного союзника могут измениться в любой момент. Маршрут этого изменения - от дискуссии к шельмованию, от конвенциональной остроты к откровенной грубости.
Библиография
Бескин О. Кустарная мастерская литературной реакции // На литературном посту. 1927. № 7.
В. Б. [Быстрянский В. А.] На темы дня: Ближе к жизни! // Петроградская правда. 27.01.1920. № 18.
Глаголев А. В. Шкловский. «Третья фабрика». Изд. «Круг». М., 1926. Стр. 139.
Ц. 1 руб. // Молодая гвардия. 1927. Кн. 1. Горнфельд А. Формалисты и их противники // Литературная мысль. 1922. № 3. Горький М. О формализме // Правда. 09.04.1936. № 99. URL: http://gorkiy.lit-info.
ru/gorkiy/articles/article-86.htm. Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград. 1940-е годы. М.: Новое
литературное обозрение, 2012. Жиц Ф. Виктор Шкловский. «Сентиментальное путешествие». Л.: Издательство
«Атеней», 1924 // Красная новь. 1925. Кн. 2. Жиц Ф. Виктор Шкловский. «Третья фабрика». Изд. «Круг». 140 стр. 1926 г. // Красная новь. 1926. № 11.
37. Эйхенбаум Б. М. Теория формального метода // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987. С. 375.
Загорский М. Книга. Среди книг и журналов. «Пересвет». Кн. 1. «Книжный Угол». Вып. 8. «Северные дни». Кн. II // Вестник искусств. 1922. № 2.
Зелинский К. Как сделан Виктор Шкловский // Жизнь искусства. 1924. № 14.
Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб.: Академический проект, 2004.
Кин В. В. Шкловский. «Сентиментальное путешествие». Воспоминания. 1924 г. 192 стр. Тираж 5000 // Молодая гвардия. 1925. Кн. 2-3.
Лелевич Г. Гиппократово лицо // Красная новь. 1925. № 1.
Ленин В. И. Письмо А. М. Горькому, 15/К // Он же. Полн. собр. соч. Т. 51. М.: Политиздат, 1978.
Локс К. Г. Виктор Шкловский. Розанов. Из кн. «Сюжет как явление стиля». Издательство ОПОЯЗ, 1921 год, Петроград // Печать и революция. 1922. Кн. 1.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры // Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 219-253.
Маяковский В. В. Приказ по армии искусства // Искусство коммуны. 07.12.1918. № 1. С. 1.
Нусинов И. Запоздалые открытия, или как В. Шкловскому надоело есть голыми руками, и он обзавелся самодельной марксистской ложкой // Литература и марксизм. 1929. № 5.
Полонский В. П. Блеф продолжается // Он же. На литературные темы. М.: Круг,
1927. С. 37-39.
Полонский В. П. К вопросу о наших литературных разногласиях. Статья первая. Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича «На литературном посту» // Он же. На литературные темы. М.: Круг, 1927.
Полонский В. П. Леф или блеф // Он же. На литературные темы. М.: Круг, 1927.
Тоддес Е. А., Чудаков А. П., Чудакова М. О. Комментарии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
Троцкий Л. Д. Формальная школа поэзии и марксизм // Он же. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991.
Ханзен-Лёве О. А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципов остранения. М.: Языки русской культуры, 2001.
Шкловский В. Б. «Еще ничего не кончилось.» М.: Пропаганда, 2002.
Шкловский В. Б. В свою защиту // Он же. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990.
Шкловский В. О Маяковском. М.: Советский писатель, 1940.
Эйхенбаум Б. М. «Мой временник». Художественная проза и избранные статьи 20-30-х годов. СПб.: Инапресс, 2001.
Эйхенбаум Б. М. Вокруг вопроса о формалистах // Печать и революция. 1924. № 5. С. 1-12.
Эйхенбаум Б. М. Теория формального метода // Он же. О литературе. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987.
Энгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы // Он же. Избр. труды. СПб.: Издательство Санкт-Петребургского университета, 1995.
Якобсон Р. О. О художественном реализме // Он же. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.
FROM DISPUTE TO PERSECUTION: RHETORIC OF DEBATES SURROUNDING THE FORMALIST CIRCLE IN THE 1920S
Jan Levchenko. Professor, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, [email protected].
National Research University Higher School of Economics (HSE). Address: 21/4 Staraya Basmannaya str., 105066 Moscow, Russia.
Keywords: Russian formalism; literary criticism and polemics; rhetoric of competition and discussion in literature; class struggle; Bolshevik revolution.
The present article traces the origins and forms of aggressive rhetoric in the Soviet literary criticism of the 1920s, using the example of the debates surrounding the Leningrad branch of the Russian Formalist School. The discussions around this research circle can be traced to the destructive experience of revolution and civil war, and the shift from conventional forms of debate to the abuse and annihilation of opponents, transforming the latter practices into the new mainstream. The discussion as such becomes a race for power, or a straight-up competition between political groups. In turn, literary criticism also starts reproducing the repressive methods of the victor. The so-called "formalists" represent the most prominent example of this process, as they were sentenced to annihilation as pure ideological enemies of the new hegemonic class - both in a political and cultural sense.
The contrast dualism that characterizes the opposition between "us" and "them" in Russian culture to the present day became visible during that time, as the triumphant class was fundamentally unwilling to compromise with the defeated. The Bolsheviks were not feeling magnanimous after the victory of the October revolution. Their strategy was to cultivate hatred, pitting different groups against each other under the banner of class struggle in order to further strip and/or remove any phenomena diverging from the established way forward. The primary motivation for the crackdown through terror was civil war. Subsequently, it was replaced by the requirement for special vigilance during the temporary resurgence of the bourgeoisie in the period of New Economic Policy (NEP). The conceptualization of the NEP was not only an economic and industrial, but also inevitably a cultural matter, and the proletariat simply had to feel threatened by the surviving oppressors whose consciousness remained the same as before the revolution. Ultimately, the announced and long-awaited rejection of the NEP and its "restorative" culture legitimized a new round of aggressive rhetoric that reinforced the internal crisis of the Soviet "poputchiks" (primarily discriminated intelligentsia) and allowed to put an end to them on the cusp of the 1920s and 1930s.
DOI: 10.22394/0869-5377-2017-5-25-41
Beskin O. Kustarnaia masterskaia literaturnoi reaktsii . Na literaturnom postu , 1927, no. 7. Curtis J. Boris Eikhenbaum: ego sem"ia, strana i russkaia literatura , Saint Petersburg, Aka-demicheskii proekt, 2004. Druzhinin P. A. Ideologiia i filologiia. Leningrad. 1940-e gody , Moscow, New Literary Observer, 2012.
Eikhenbaum B. M. "Moi vremennik". Khudozhestvennaia proza i izbrannye stat"i 20-30-kh godov ["My Temporary..." Prose and Selected Articles, 1920-1930], Saint Petersburg, Inapress, 2001.
Eikhenbaum B. M. Teoriia formal"nogo metoda . O literature. Raboty raznykh let , Moscow, Sovetskii pisatel", 1987.
Eikhenbaum B. M. Vokrug voprosa o formalistakh . Pechat" i revoliutsiia , 1924, no. 5, pp. 1-12.
Engelgardt B. M. Formal"nyi metod v istorii literatury . Izbr. trudy , Saint Petersburg, Izdatel"stvo Sankt-Petreburgskogo universiteta, 1995.
Glagolev A. V. Shklovskii. "Tret"ia fabrika". Izd. "Krug". M., 1926. Str. 139. Ts. 1 rub.
Molo-daia gvardiia , 1927, book 1.
Gorky M. O formalizme . Pravda , April 9, 1936, no. 99. Available at: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-86.htm.
Gornfel"d A. Formalisty i ikh protivniki . Literatur-naia mysl" , 1922, no. 3.
Hansen-Löve A. A. Russkii formalizm. Metodologicheskaia rekonstruktsiia razvitiia na osnove printsipov ostraneniia , Moscow, Iazyki russkoi kul"tury, 2001.
Jakobson R. O. O khudozhestvennom realizme . Raboty po poe-tike , Moscow, Progress, 1987.
Kin V. V. Shklovskii. "Sentimental"noe puteshestvie". Vospominaniia. 1924 g. 192 str. Tirazh 5000 . Molodaia gvardiia , 1925, books 2-3.
Lelevich G. Gippokratovo litso . Krasnaia nov" , 1925, no. 1.
Lenin V. I. Pis"mo A. M. Gor"komu, 15/IX . Poln. sobr. soch. T. 51 , Moscow, Politizdat, 1978.
Loks K. G. Viktor Shklovskii. Rozanov. Iz kn. "Siuzhet kak iavlenie stilia". Izdatel"stvo OPOIaZ, 1921 god, Petrograd . Pechat" i revoliutsiia , 1922, book 1.
Lotman Y. M., Uspensky B. A. Rol" dual"nykh modelei v dinamike russkoi kul"tury
In: Uspensky B. A. Izbr. trudy. T. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul"tury , Moscow, Gnozis, 1994,
Mayakovsky V. V. Prikaz po armii iskusstva . Iskusstvo kommuny , December 7, 1918, no. 1, p. 1.
Nusinov I. Zapozdalye otkrytiia, ili kak V. Shklovskomu nadoelo est" golymi rukami, i on obzavelsia samodel"noi marksistskoi lozhkoi . Literatura i marksizm , 1929, no. 5.
Polonskii V. P. Blef prodolzhaetsia . Na literaturnye temy , Moscow, Krug, 1927, pp. 37-39.
Polonskii V. P. K voprosu o nashikh literaturnykh raznoglasiiakh. Stat"ia pervaia.
Kriticheskie zametki po povodu knigi G. Lelevicha "Na literaturnom postu" . Na literaturnye temy , Moscow, Krug, 1927.
Polonskii V. P. Lef ili blef . Na literaturnye temy , Moscow, Krug, 1927.
Shklovsky V. B. "Eshche nichego ne konchilos"..." ["Everything Hasn"t Ended Yet..."], Moscow, Propaganda, 2002.
Shklovsky V. B. O Maiakovskom , Moscow, Sovetskii pisatel", 1940.
Shklovsky V. B. V svoiu zashchitu . Gamburgskii schet , Moscow, Sovetskii pisatel", 1990.
Toddes E. A., Chudakov A. P., Chudakova M. O. Kommentarii . In: Tyn-yanov Y. N. Poetika. Istoriia literatury. Kino , Moscow, Nauka, 1977.
Trotsky L. D. Formal"naia shkola poezii i marksizm . Literatura i revoliutsiia , Moscow, Politizdat, 1991.
V. B. Na temy dnia: Blizhe k zhizni! . Petrogradskaia pravda , January 27, 1920, no. 18.
Zagorskii M. Kniga. Sredi knig i zhurnalov. "Peresvet". Kn. 1. "Knizhnyi Ugol". Vyp. 8.
"Severnye dni". Kn. II . Vestnik iskusstv , 1922, no. 2.
Zelinskii K. Kak sdelan Viktor Shklovskii . Zhizn" iskusstva , 1924, no. 14.
Zhits F. Viktor Shklovskii. "Sentimental"noe puteshestvie". L.: Izdatel"stvo "Atenei", 1924 . Krasnaia nov" , 1925, book 2.
Zhits F. Viktor Shklovskii. "Tret"ia fabrika". Izd. "Krug". 140 str. 1926 g. . Krasnaia nov" , 1926, no. 11.
Подспудный, но жаркий общественный накал философско-эстетических исканий и битв «гоголевского периода» русской литературы рождает новый для нее, общественно наиболее действенный, публицистический жанр — журнальной критики и полемики.
Принципиально новым явлением было и то первостепенное место, которое он завоевывает в 30—40-е гг. в качестве наиболее острого и оперативного орудия идейной борьбы и размежевания различных по своим социальным устремлениям направлений не только литературной, но и общественной, в том числе и научной, мысли.
В форме наиболее «невинных» в цензурном отношении критических разборов и эстетических деклараций ставятся в журналах и по-разному решаются самые жгучие вопросы современности.
Одним из первых прообразов такого нового типа журнала стал орган московских любомудров «Московский вестник». Он издавался с 1827 по 1830 г., его редактором, практически номинальным, был М. П. Погодин. Журнал преследовал строго определенную цель — способствовать «просвещению» русского общества, убедить его в том, что философия «есть наука наук, наука премудрости», путем ознакомления с философией Шеллинга, с учением Гердера, с художественными произведениями и эстетической теорией немецких романтиков и соответствующей критической интерпретацией явлений русской литературы.
В создании журнала принял непосредственное участие Пушкин, в основном по тактическим соображениям. Не испытывая никакого влечения к немецкой «метафизике», он рассчитывал подчинить журнал своему влиянию и обрести в нем свою собственную печатную трибуну.
Этого не произошло. Став, как он и был задуман, трибуной шеллингинских воззрений любомудров, «Московский вестник» сыграл известную роль в популяризации идей немецкой классической философии, но завоевать широкую читательскую аудиторию не смог и вскоре прекратил свое существование.
Еще меньше, всего полтора года, просуществовала и близкая Пушкину по своему направлению «Литературная газета» (январь 1830 — июнь 1831). Она издавалась одним из ближайших друзей Пушкина, Дельвигом, при участии О. Сомова, а после смерти Дельвига — несколько месяцев одним Сомовым. Помимо издателей и Пушкина в газете печатались Баратынский, Вяземский, Катенин, Плетнев, Гоголь, Станкевич и ряд других молодых писателей и поэтов.
Название газеты (она выходила раз в пять дней) подчеркивало ее сугубо литературный, неполитический характер. Но ее демонстративная независимость от официальной идеологии и ожесточенная полемика с Ф. Булгариным и Н. Полевым, обвинявшими газету, и не без основания, в крамольном «аристократизме», вызвали неодобрение властей и не получили общественной поддержки.
Самым влиятельным, серьезным и популярным журналом становится в это время «Московский телеграф», издававшийся Н. А. Полевым с 1825 по 1834 г. Журнал имел четкую литературную и политическую программу, воинствующе романтическую, в основе своей пробуржуазную, антидворянскую и в этом смысле демократическую, однако ратовавшую за союз самодержавия с купечеством и промышленниками.
Под этим углом зрения в журнале широко освещалась текущая литературная, научная и общественно-политическая жизнь западноевропейских стран, преимущественно Франции; положительно, даже восторженно, оценивалась июльская монархия; пропагандировались принципы французского романтизма и его эклектическая философия (Кузен, Вильмен) как антиаристократические, а потому и самые перспективные для России.
В первые годы издания «Московского телеграфа» Полевой сумел объединить в нем лучшие литературные силы. Деятельное участие в издании принимает Вяземский, привлекший к нему Пушкина, Баратынского, Языкова, Катенина и других поэтов своего окружения. В годы оформления школы «величавого романтизма» издатель «Телеграфа» отнюдь не принадлежит к ее сторонникам. Более того, за резкий критический отзыв об официозной драме Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», пленившей Николая I, журнал был закрыт.
«Московский телеграф» и его издатель оказали немалое воздействие на демократизацию литературно-общественного сознания, что по заслугам было оценено Белинским и Чернышевским. Но откровенно пробуржуазная и в конечном счете верноподданническая позиция Полевого отбросила его в ряды врагов Пушкина и Гоголя и после закрытия «Московского телеграфа» привела в стан реакции.
По тем же причинам издатель «Телеграфа» остался в стороне от самого умозрительного по формам, но в высшей степени перспективного по содержанию философско-эстетического направления 30-х гг., у истоков которого стоят любомудры и «Московский вестник».
В противоположность Н. Полевому, издатели «Московского вестника» после прекращения его издания постепенно проникаются все более антибуржуазным духом и, оставаясь по-прежнему приверженцами Шеллинга, но приняв теперь и его позднюю реакционную «философию откровения», постепенно преображаются из любомудров в славянофилов. В преддверии этого они издают «Московский наблюдатель» (1835—1837), руководимый С. П. Шевыревым и В. А. Андросовым.
Журнал был задуман как противодействие «промышленной» словесности и журналистике, представленной тем же Н. Полевым, Н. Гречем, Ф. Булгариным, издателем официозной газеты «Северная пчела», и главным образом «Библиотеке для чтения», издававшейся талантливым, но беспринципным литератором и ученым-востоковедом О. И. Сенковским совместно с книгопродавцем А. Ф. Смирдиным с 1834 г. Рассчитанная на вкусы непритязательного читателя, «Библиотека для чтения» пользовалась большим успехом в чиновничьей и купеческой среде, у средних слоев дворянства, в том числе и провинциального.
Шеллингианская по своему философскому оформлению и во многом справедливая критика издателями «Московского наблюдателя» «промышленного века» в целом как враждебного высоким устремлениям человеческого духа и его высшему выражению — искусству — сочеталась с оппозицией самодержавно-крепостническому строю, но была критикой справа, направленной против демократических устремлений современности.
Это отшатнуло от журнала Пушкина, одно время сочувствовавшего ему, и резко было осуждено Белинским, выступавшим против «Московского наблюдателя» в журнале Н. И. Надеждина «Телескоп» и в выходившей в качестве приложения к нему газете «Молва» (1831—1836).
Подобно «наблюдателям», издатель «Телескопа» был убежденным шеллингианцем, но существенно иной и в основном демократической ориентации, осложненной, однако, политическим консерватизмом. Воззрения Надеждина на сущность и общественную функцию искусства были столь же противоречивы, но в целом пролагали путь реалистической эстетике.
Особо весо̀м вклад, внесенный Надеждиным в демократическое понимание проблемы «народности», прямо противоположное ее охранительной трактовке издателями «Московского наблюдателя», которая и легла в основу их славянофильской доктрины, оформившейся через несколько лет. В «Телескопе» и «Молве» начал свою литературно-критическую деятельность Белинский, многим обязанный Надеждину. В числе сотрудников «Телескопа» были будущие «западники» — А. И. Герцен, М. А. Бакунин, В. П. Боткин, П. Я. Чаадаев.
Пушкин напечатал в «Телескопе» два памфлета на Булгарина, что отвечало позиции журнала, заостренной одновременно и против «Московского телеграфа» Полевого, и «Московского наблюдателя». За опубликование «Философического письма» Чаадаева «Телескоп» был закрыт, а его издатель выслан из Москвы на Урал.
Почти одновременно, в апреле 1836 г., вышел первый номер основанного Пушкиным журнала «Современник». Четкой программы журнал не имел и, продолжая во многом традиции «Литературной газеты», был в отличие от нее рассчитан на круги не только либеральной дворянской интеллигенции, но также и разночинной, демократической.
В «Современнике» Пушкин опубликовал ряд своих художественных произведений, в том числе и «Капитанскую дочку», несколько критических и исторических очерков, рецензий и заметок. В журнале приняли участие (не слишком, правда, активное) старые литературные друзья Пушкина — Жуковский, Вяземский, Баратынский, а также Языков, Д. Давыдов, Тютчев и др.
Наиболее активным участником журнала стал молодой Гоголь, поместивший в 1-м номере «Современника» большую и остро полемическую статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Она далеко не во всем удовлетворяла Пушкина, что не помешало появиться на страницах «Современника» таким произведениям Гоголя как «Коляска», «Нос» и «Утро делового человека».
Оставшись в стороне от философских интересов и разногласий своего времени (что не совсем оправдывало название «Современник»), журнал Пушкина претендовал на значение не только литературно-критического, но в какой-то мере историко-литературного и даже исторического издания. Большинство связанных с этим планов Пушкина осталось неосуществленным по цензурным причинам.
Пушкин успел издать только четыре номера «Современника». Но журналу была суждена долгая жизнь. После смерти своего основателя он перешел в руки Плетнева и Жуковского, а через десять лет, в конце 1846 г., стал журналом Некрасова и Белинского, самым влиятельным и передовым периодическим изданием второй половины 40-х гг.
На страницах «Современника» развернулась борьба Белинского со славянофилами, ополчившимися в своем журнале «Москвитянин» (1841—1855) против «отрицательного» направления «натуральной школы».
После смерти Белинского (1848) «Современник» постепенно утрачивает свой боевой демократический дух, который с новой силой возродился в 1853 г., когда Некрасов привлек к работе в журнале Н. Г. Чернышевского, а вслед за тем и Н. А. Добролюбова. Судьба «Современника» символична, как бы воплощая объективную логику литературного развития 30—40-х гг., во многом, но не до конца предугаданную Пушкиным.
Особая и весьма значительная роль принадлежит в первой половине 40-х гг. и другому долголетнему журналу — «Отечественные записки» (1820—1884). С 1839 по 1846 г. критико-библиографический, широко поставленный отдел журнала, издававшегося тогда А. А. Краевским, ведет почти единолично Белинский.
Здесь в полной мере развертывается публицистическое дарование критика, а его статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Кольцове,систематические годовые литературные обозрения и многие, многие другие критические отзывы становятся крупными событиями литературно-общественной жизни, с жадностью ожидаются, читаются, обсуждаются студенческой молодежью и демократической интеллигенцией. Такого широкого общественного резонанса русская критика до того не знала.
Постепенно вокруг журнала и Белинского группируются многие молодые писатели социалистической ориентации, последователи Гоголя и почитатели Жорж Санд — Герцен, Огарев, Салтыков, Некрасов, Достоевский, а также Тургенев, Григорович и некоторые другие, объединенные новым направлением, получившим вскоре наименование «натуральной школы».
Одновременно «Отечественные записки» становятся органом пропаганды социалистических идей, под прямым воздействием которых складывается реалистическая и демократическая эстетика «натуральной школы».
К ней, как и к творчеству ее вдохновителя — Гоголя, полностью приложимы слова, сказанные Герценом о политической лирике декабристов и Пушкина: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести».
История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.
Важное место в русской лите-ратурно-общественной жизни зани-мала литературная критика.
Как соотносятся критика и художественная лите-ратура? Казалось бы, не возникает сомнений, что литература первична, а критика вторична, иными словами, что критическая мысль следует в своем развитии за движением литературы и не может содержать более того, что дано литературой. В прин-ципе так оно и есть, однако для русской критики еще со времен декабристов стало традицией обра-щение к проблемам не только чисто литературным, но и общественным, философским, нравственным. Кроме того, известны случаи, когда лучшие критики оказывались способными давать такие прогнозы ли-тературного развития, которые в последующем полно-стью оправдывались.
Общественная жизнь 60-х гг. была весьма напряженной. Литературная критика как раз и являлась одной из основных сфер идейной борьбы, что нашло отражение в острой по-лемике между представителями различных направле-ний. Защитники революционно-демократической идео-логии и сторонники «чистого искусства» отстаивали диаметрально противоположные теории, по-разному смотрели на цели и задачи литературного творчества.
Далеко не все выдающиеся писатели XIX в. при-знавали справедливость острой литературной поле-мики, когда одни отстаивали благотворность только гоголевских традиций, а другие принимали только «чистую поэзию» Пушкина. Однако Тургенев писал Дружинину о необходимости в русской литературе и Пушкина, и Гоголя: «Пушкинское отступило было на второй план — пусть опять выступит вперед, но не с тем, чтобы сменить гоголевское. Гоголевское влияние и в жизни, и в литературе нам еще крайне нужно». Сходной позиции придерживался и Некра-сов, который в период наиболее острой полемики призывал молодое поколение учиться у Пушкина: «...поучайтесь примером великого поэта любить ис-кусство, правду и родину, и если Бог дал Вам талант, идите по следам Пушкина». Но в то же время в письме к Тургеневу Некрасов утверждал, что Гоголь — «это благородная и в русском мире самая гуманная личность; надо желать, чтобы по стопам его шли молодые писатели России». Материал с сайта
В середине XIX в. представители двух основных направлений, двух эстетических теорий резко поле-мизировали. Кто был прав, кто ошибался? До из-вестной степени была права как одна, так и другая сторона.
Можно сказать, что идеалом является органи-ческое сочетание, гармония эстетических, нравст-венных, социологических, исторических критериев. К сожалению, это далеко не всегда получалось. Среди критиков не было единства: появились раз-личные школы и направления, каждое из которых имело не только свои достижения и успехи, но и недостатки, не в последнюю очередь вызванные из-лишними полемическими крайностями.
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?
- Новый год огненного петуха гороскоп
- Любовный гороскоп на июль женщина скорпион
- Чем заменить колбасу при правильном питании Мясо запеченное в духовке на бутерброды
- Салат с сосисками и кукурузой
- Что лучше на завтрак годовалому ребенку
- Что приготовить на завтрак ребенку в год и старше: рецепты быстрых и вкусных блюд
- Как правильно приготовить чай с корицей для похудения Как пить корицу с чаем
- Минимальный размер оплаты труда (мрот)
- Должностная инструкция повара школьной столовой
- Расписка о получении трудовой книжки на руки избавит работодателя от проблем Расписка при увольнении о выдаче всех справок
- Лимонный напиток Как варить лимонад из лимонов без цедры
- Салаты из морепродуктов Салат из морепродуктов в духовке
- Домашние рогалики с яблоками: пошагово с фото
- Лапландская уха. Уха по-фински. Традиционный рецепт. С плавленым сыром
- Багет с сыром и с чесноком рецепт в духовке Чесночный соус для багета рецепт
- Как приготовить вкусные сочные медальоны: инструкция к применению Рецепт медальонов из телятины от эктора
- Гораздо вкуснее обычных…
- Гороскоп на конец февраля скорпион
- Интересные факты о наручных часах: спорим, вы этого не знали?