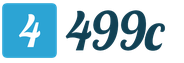Белая гвардия год. "белая гвардия"
Анонс
"Белая гвардия" (1923-1924) - один из наиболее известных романов выдающегося отечественного прозаика Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Роман являет собой захватывающее повествование о трагических событиях 1918 года на Украине, охваченной смутой Гражданской войны. Книга рассчитана на самую массовую аудиторию.
Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской
Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями.
Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение
темное небо смешалось с снежным морем. Все
исчезло.
- Ну, барин, - закричал ямщик, - беда: буран!
"Капитанская дочка"
И судимы были мертвые по написанному в книгах
сообразно с делами своими...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская - вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...
Много лет до смерти, в доме N_13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади "Саардамский Плотник", часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава.
Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской
Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями.
Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение
темное небо смешалось с снежным морем. Все
– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!
«Капитанская дочка»
И судимы были мертвые по написанному в книгах
сообразно с делами своими...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...
Много лет до смерти, в доме N13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:
– Дружно... живите.
Но как жить? Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
– Живите.
А им придется мучиться и умирать.
Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:
– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время... Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...
Белая гвардия
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://bulgakovmikhail.ru/ Приятного чтения! Белая гвардия Михаил Афанасьевич Булгаков Классическая и современная проза Место действия в романе М.А.Булгакова "Белая гвардия" - Киев, время - "страшный год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй", герой - молодой врач Алексей Турбин, волею судьбы попавший в водоворот страшных событий Гражданской войны. Семья Турбиных до последнего старается сохранить в своем доме старый уклад, собственный духовный мир... Но в переходящем из рук в руки Киеве это невозможно... В книгу также вошла пьеса "Дни Турбиных" и рассказы писателя, сюжеты которых во многом автобиографичны. Михаил Булгаков. Белая гвардия Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. – Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран! «Капитанская дочка» И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими... ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1 Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх... Много лет до смерти, в доме N13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила: – Дружно... живите. Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: – Живите. А им придется мучиться и умирать. Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал: – Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время... Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот... Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью. – Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля божья. – Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. – Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но унывать-то не следует... Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. – Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские... Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: – "Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь". 2 Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец. Над двухэтажным домом N13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай. – Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри. Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита. – Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас. – А ну их... Идем. Бери. Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения: "Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь. Союзники – сволочи. Он сочувствует большевикам." Рисунок: рожа Момуса. Подпись: «Улан Леонид Юрьевич». "Слухи грозные, ужасные, Наступают банды красные!" Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом. Подпись: «Бей Петлюру!» Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано: "Елена Васильевна любит нас сильно, Кому – на, а кому – не." "Леночка, я взял билет на Аиду. Бельэтаж N8, правая сторона." «1918 года, мая 12 дня я влюбился.» «Вы толстый и некрасивый.» «После таких слов я застрелюсь.» (Нарисован весьма похожий браунинг.) "Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие!" «Июнь. Баркарола.» "Недаром помнит вся Россия Про день Бородина." Печатными буквами, рукою Николки: "Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер, 1918 года, 30-го января." Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо... На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.) Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому. Старший бросает книгу, тянется. – А ну-ка, сыграй «Съемки»... Трень-та-там... Трень-та-там... Сапоги фасонные, Бескозырки тонные, То юнкера-инженеры идут! Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко. Здравствуйте, дачники, Здравствуйте, дачницы... Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской
Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями.
Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение
темное небо смешалось с снежным морем. Все
исчезло.
– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!
«Капитанская дочка»
И судимы были мертвые по написанному в книгах
сообразно с делами своими...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь кованозолотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...
Много лет до смерти, в доме N13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отецпрофессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали какнибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:
– Дружно... живите.
Но как жить? Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизньто им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
– Живите.
А им придется мучиться и умирать.
Както, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:
– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время... Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...
Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город повечернему глухо шумел, пахло сиренью.
– Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля божья.
– Может, кончится все это когданибудь? Дальшето лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин.
Священник шевельнулся в кресле.
– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но уныватьто не следует...
Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.
– Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но както очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские...
Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:
– "Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь".
Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.
Над двухэтажным домом N13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.
В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.
– Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.
Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.
– Вот бы подстрелить чертей! Ейбогу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.
– А ну их... Идем. Бери.
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.
Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:
"Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь. Союзники – сволочи.
Он сочувствует большевикам."
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
«Улан Леонид Юрьевич».
"Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!"
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.
Подпись:
«Бей Петлюру!»
Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:
"Елена Васильевна любит нас сильно,
Кому – на, а кому – не."
"Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж N8, правая сторона."
«1918 года, мая 12 дня я влюбился.»
«Вы толстый и некрасивый.»
«После таких слов я застрелюсь.»
(Нарисован весьма похожий браунинг.)
"Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!"
«Июнь. Баркарола.»
"Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина."
Печатными буквами, рукою Николки:
"Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер,
1918 года, 30го января."
Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонктанк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень... Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...
На плечах у Николки унтерофицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)
Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.
Старший бросает книгу, тянется.
– А нука, сыграй «Съемки»...
Треньтатам... Треньтатам...
Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкераинженеры идут!
Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.
Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...
Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают:
Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.
Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Паазор...
Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас уж давно начались.
Туманятся Николкины глаза.
Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.
Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.
Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.
– Погодите. Слышите?
Оборвала рота шаг на всех семи струнах: стоой! Все трое прислушались и убедились – пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: буу... Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.
В гостиной – приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал унтерофицерскими плечами.
– Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.
Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черноиспуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют в двенадцати верстах от города, не дальше. Что за штука?
Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.
– Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...
– Ну да, тебя там не хватало...
Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.
В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой, колонной, вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу – коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пилафраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...
“БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”, роман. Впервые опубликован (не полностью): Россия, М.,1924, № 4; 1925, № 5. Полностью: Булгаков М. Дни Турбиных (Белая гвардия). Париж: Concorde, т. 1 – 1927, т. 2 – 1929. 2-й том в 1929 г. как “Конец белой гвардии” вышел также в Риге в “Книге для всех”. Б. г. – во многом автобиографический роман, основанный на личных впечатлениях писателя о Киеве (в романе – Городе) конца 1918 – начала 1919 г. Семья Турбиных – это в значительной степени семья Булгаковых. Турбины – девичья фамилия бабушки Булгакова со стороны матери, Анфисы Ивановны, в замужестве – Покровской. Б. г. была начата в 1922 г., после смерти матери писателя, В.М.Булгаковой, 1 февраля 1922 г. (в романе смерть матери Алексея, Николки и Елены Турбиных отнесена к маю 1918 г. – времени ее брака с давним другом, врачом Иваном Павловичем Воскресенским (около 1879-1966), которого недолюбливал Булгаков). Рукописи романа не сохранилось. Как говорил Булгаков своему другу П. С. Попову в середине 20-х годов, Б. г. была задумана и написана в 1922-1924 гг. По свидетельству перепечатывавшей роман машинистки И. С. Раабен, первоначально Б. г. мыслилась как трилогия, причем в третьей части, действие которой охватывало весь 1919 г., Мышлаевский оказывался в Красной Армии. Характерно, что отрывок из ранней редакции Б. г. “В ночь на 3-е число” в декабре 1922 г. был опубликован в берлинской газете “Накануне” с подзаголовком “Из романа “Алый мах”. В качестве возможных названий романов предполагавшейся трилогии в воспоминаниях современников фигурировали “Полночный крест” и “Белый крест”. В фельетоне “Самогонное озеро” (1923) Булгаков так отозвался о Б. г., над которой тогда работал: “А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, от которого небу станет жарко...” Однако во второй половине 20-х годов в беседе с П.С.Поповым назвал Б. г. романом “неудавшимся”, хотя “к замыслу относился очень серьезно”. В автобиографии, написанной в октябре 1924 г., Булгаков зафиксировал: “Год писал роман “Белая гвардия”. Роман этот я люблю больше всех других моих вещей”. Но писателя все больше одолевали сомнения. 5 января 1925 г. он отметил в дневнике: “Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и “Белая гвардия” не сильная вещь”.
Прототипами героев Б. г. стали киевские друзья и знакомые Булгакова. Так, поручик Виктор Викторович Мышлаевский списан с друга детства Николая Николаевича Сынгаевского. Первая жена Булгакова Т.Н.Лаппа следующим образом описала Сынгаевского в своих воспоминаниях:
“Он был очень красивый... Высокий, худой... голова у него была небольшая... маловата для его фигуры. Все мечтал о балете, хотел в балетную школу поступить. Перед приходом петлюровцев он пошел в юнкеры”. Позднее, то ли после занятия Киева войсками А. И. Деникина (1872-1947), то ли прихода туда поляков в 1920 г., семья Сынгаевских эмигрировала в Польшу. Портрет персонажа во многом повторяет портрет прототипа: “...И оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб был чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок”. Тут черты Сынгаевского сознательно соединены с приметами сатаны – разными глазами, мефистофелевским носом с горбинкой, косо срезанными ртом и подбородком. Позднее эти же приметы обнаружатся у Воланда в романе “Мастер и Маргарита”.
Прототипом поручика Шервинского послужил еще один друг юности Булгакова Юрий Леонидович Гладыревский, певец-любитель (это качество перешло и к персонажу), служивший в войсках гетмана Павла Петровича Скоропадского (1873-1945), но не адъютантом. Потом он эмигрировал. Интересно, что в Б. г. и пьесе “Дни Турбиных” Шервинского зовут Леонид Юрьевич, а в более раннем рассказе “В ночь на 3-е число” соответствующий ему персонаж именуется Юрий Леонидович. В этом же рассказе Елена Тальберг (Турбина) названа Варварой Афанасьевной, как и сестра Булгакова, послужившая прототипом Елены. Капитан Тальберг, ее муж, был во многом списан с мужа Варвары Афанасьевны Булгаковой, Леонида Сергеевича Карума (1888-1968), немца по происхождению, кадрового офицера, служившего вначале Скоропадскому, а потом большевикам, у которых он преподавал в стрелковой школе. Любопытно, что в варианте финала Б. г., в журнале “Россия”, доведенном до корректуры, но так и не опубликованном из-за закрытия этого печатного органа, Шервинский приобретал черты не только оперного демона, но и Л.С.Карума: “ – Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский.
Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кукольным.
– Это ложь, – вскричала во сне Елена. – Вас стоит повесить.
– Не угодно ли, – ответил кошмар. – Рискните, мадам.
Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда – золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон...
– Кондотьер! Кондотьер! – кричала Елена.
– Простите, – ответил двуцветный кошмар, – всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.
– А смерть придет, помирать будем... – пропел Николка и вышел.
В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи”.
Вероятно, значимы для Булгакова инфернальные черты у таких героев, как Мышлаевский, Шервинский и Тальберг. Последний неслучайно похож на крысу (гетманская серо-голубая кокарда, щетки “черных подстриженных усов”, редко расставленные, но крупные и белые зубы”, “желтенькие искорки” в глазах, – в “Днях Турбиных” он прямо сравнивается с этим малоприятным животным). Крыс, как известно, традиционно связывают с нечистой силой. Всем троим, очевидно, в последующих частях трилогии (а до закрытия журнала “Россия” в мае 1926 г. Булгаков, скорее всего, думал продолжить Б. г.) предстояло служить в Красной Армии своего рода наемниками (кондотьерами), таким образом спасая свои шеи от петли. Глава же Красной Армии председатель Реввоенсовета Л.Д.Троцкий в романе прямо уподоблен сатане. Булгаков предсказал в финале романа два варианта судьбы участников белого движения – либо служба красным с целью самосохранения, либо гибель, которая суждена Николке Турбину, как и брату рассказчика в “Красной короне” (1922), носящему то же имя.
В результате публикации Б. г. сильно испортились отношения Булгакова с сестрой Варей и Л.С.Карумом, а также со знакомым поэтом Сергеем Васильевичем Шервинским (1892-1991), чьей фамилией был награжден не самый привлекательный персонаж романа (хотя в пьесе “Дни Турбиных” он уже гораздо симпатичнее).
В Б. г. Булгаков стремится показать народ и интеллигенцию в пламени гражданской войны на Украине. Главный герой, Алексей Турбин, хоть и явно автобиографичен, но, в отличие от писателя, не земский врач, только формально числившийся на военной службе, а настоящий военный медик, много повидавший и переживший за три года мировой войны. Он в гораздо большей степени, чем Булгаков, является одним из тех тысяч и тысяч офицеров, которым приходится делать свой выбор после революции, служить вольно или подневольно в рядах враждующих армий. В Б. г. противопоставлены две группы офицеров – те, кто “ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку”, и “вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь”. Зная результаты гражданской войны, Булгаков на стороне вторых. Лейтмотивом Б. г. становится идея сохранения Дома, родного очага, несмотря на все потрясения войны и революции, а домом Турбиных выступает реальный дом Булгаковых на Андреевском спуске, 13.
Булгаков социологически точно показывает массовые движения эпохи. Он демонстрирует вековую ненависть крестьян к помещикам и офицерам и только что возникшую, но не менее глубокую ненависть к немцам-оккупантам. Все это и питало восстание, поднятое против немецкого ставленника гетмана П. П. Скоропадского лидером украинского национального движения С. В. Петлюрой. Для Булгакова Петлюра – “просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года”, а стояла за этим мифом “лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, и спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии.
“Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок”.
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове “офицерня”... Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять...
– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!”
В финале Б. г. “только труп и свидетельствовал, что Пэттура не миф, что он действительно был...” Труп замученного петлюровцами еврея у Цепного моста, трупы сотен, тысяч других жертв – это действительность гражданской войны. А на вопрос “Заплатит ли кто-нибудь за кровь?” Булгаков дает уверенный ответ: “Нет. Никто”. В тексте романа, который Булгаков отдал в журнал «Россия», слов о цене крови еще не было. Но позднее, в связи с работой над пьесой “Бег” и зарождением замысла романа “Мастер и Маргарита”, вопрос о цене крови стал одним из основных, и соответствующие слова появились во втором томе парижского издания романа.
В Б. г. Булгаков использует мотив “оборачиваемости” большевиков и петлюровцев. Отметим, что в действительности многие деятели украинского национального движения и части петлюровской армии нередко в ходе гражданской войны или уже после ее окончания переходили на сторону большевиков либо, по крайней мере, признавали Советскую власть. Так, один из руководителей Центральной Рады и Директории известный писатель Владимир Кириллович Винниченко (1880-1951) в 1920 г. короткое время входил в состав Компартии Украины и украинского Совнаркома (правда, впоследствии он эмигрировал). Уже после окончания гражданской войны вернулся в СССР бывший председатель Центральной Рады известный историк Михаил Сергеевич Грушевский (1866-1934). Перешел к большевикам и один из ближайших соратников Петлюры Юрий Тютюнник, выпустивший в 1924 г. в Харькове на украинском языке мемуары “С поляками против Украины”, а позднее работавший в украинской кинематографии. Прототип одного из персонажей Б. г., ворвавшегося в город петлюровского полковника Болботуна, полковник П. Болбочан, ранее командовавший 5-м Запорожским полком в армии Скоропадского, в ноябре 1918 г. встал на сторону Директории и участвовал во взятии Киева, а спустя полгода перешел к большевикам и был расстрелян по приказу Петлюры. Между украинскими социалистами, к которым принадлежали и Петлюра, и Винниченко, и Тютюнник, и большевиками еще и в 20-е годы не было непроходимой пропасти. Булгаков же в Б. г. старался дать понять читателям, что насилие исходило от большевиков никак не в меньшей степени, чем от их противников. Большевистский миф, по цензурным условиям, он вынужден разоблачать иносказательно, намеками на полное сходство красных с петлюровцами (последних ругать не запрещалось). Это проявилось, в частности, в следующем эпизоде: “По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты...” Этот эпизод был купирован в советских изданиях Б. г. 60-х 80-х годов, ибо не укладывался в пропагандистский стереотип, согласно которому красный цвет и насилие над человеком, да еще проповедующим гражданские права, несовместимы. Для Булгакова и большевики, и петлюровцы на деле равнозначны и выполняют одну и ту же функцию, поскольку “нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.
Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся”.
Возможно он был знаком с цитатой из “Правды”, приведенной в книге С.П.Мельгунова “Красный террор в России” (1923): “Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодный амбар, раздевала догола и избивала шомполами”.
Показательно, что в варианте заключительной части Б. г., так и не напечатанном в журнале “Россия”, Алексей Турбин, сбежавший от петлюровцев, ожидает прихода красных и видит сон, в котором его преследуют чекисты: “И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папахе. И это тот самый, которого Турбин ранил в декабре на Мало-Провальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги? Враги, черт их возьми! Неужели же теперь они соединились? О, если так, Турбин пропал!
– Берите его, товарищи! – рычит кто-то. Бросаются на Турбина.
– Хватай его! Хватай! – орет недостреленный окровавленный оборотень, – тримай його! Тримай!
Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно – Турбин всегда при пиковом интересе, Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет.
Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет”.
По Булгакову все власти, сменяющие друг друга в гражданской войне, оказываются враждебны интеллигенции. В Б. г. он показал это на примере петлюровцев, в фельетонах “Грядущие перспективы” (1919) и “В кафэ” (1920) – на примере красных, и, наконец, в пьесе “Бег” (1928) – на примере белых.
В Б. г. выявлены и причины неудачи белого движения. Крестьянство ему враждебно, а городская “кофейная публика”, заклейменная еще в фельетоне “В кафэ”, защищать идеалы белых не желает: “Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки – просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет – дело швах!”
Алексей Турбин в Б. г. – монархист, хотя монархизм его испаряется от сознания бессилия предотвратить гибель невинных людей. Т.Н.Лаппа свидетельствовала, что эпизод исполнения братьями Турбиными и их друзьями запрещенного царского гимна – не выдумка. Булгаков с товарищами действительно пели “Боже, царя храни”, только не при гетмане, а при петлюровцах. Это вызвало недовольство домовладельца, Василия Павловича Листовничего (1876-1919, по другим данным – не ранее 1920) – прототипа инженера Василия Ивановича Лисовича, Василисы, в Б. г. Однако в период создания романа Булгаков уже не был монархистом. В дневнике писателя 15 апреля 1924 г. следующим образом прокомментированы слухи о том, “будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича” (Младшего) (1856-1929), дяди Николая II (1868-1918) и главы дома Романовых: “Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало”.
В Б. г. есть отчетливые параллели со статьей С.Н.Булгакова “На пиру богов” (1918). Русский философ писал, что “некто в сером”, кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Россией и ищет ее связать и парализовать”. В романе “некто в сером” – это и Троцкий, и Петлюра, уподобленные дьяволу, причем настойчиво подчеркивается серый цвет у большевистских, немецких и петлюровских войск. Красные – это “серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов, с равнины, ведущей к Москве”, немцы “пришли в Город серыми шеренгами”, а украинские солдаты не имеют сапог, зато имеют “широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей”. Рассуждения же Мышлаевского о “мужичках-богоносцах” Достоевского, порезавших офицеров под Киевом, восходит к следующему месту в статье “На пиру богов”: “Недавно еще мечтательно поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда народ перестал бояться барина, да тряхнул вовсю, вспомнил свои пугачевские были – ведь память народная не так коротка, как барская, – тут и началось разочарование...” Мышлаевский в Б. г. последними словами ругает “мужичков-богоносцев” Достоевского, которые сразу становятся смирными после угрозы расстрела. Однако он и другие офицеры в романе только угрожают, но угроз своих в действие не приводят (барская память действительно короткая), в отличие от мужиков, которые при первой возможности возвращаются к пугачевским традициям и господ режут. При описании похода Мышлаевского под Красный Трактир и гибели офицеров автор Б. г. воспользовался воспоминаниями Романа Гуля (1896-1986) “Киевская эпопея (ноябрь – декабрь 1918 г.)”, опубликованными во втором томе берлинского “Архива русской революции” в 1922 г. Оттуда же образ “звенящего шпорами, картавящего гвардейца адъютанта”, материализовавшийся в Шервинском, плакат “Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан!”, бестолковщина штабов, с которой сам Булгаков не успел столкнуться, и некоторые другие детали.
Как вспоминала Т.Н.Лаппа, булгаковская служба у Скоропадского свелась к следующему: “Пришел Сынгаевский и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь... а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас ночевать... А утром Михаил поехал. Там медпункт был... И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы”. Эпизод с бегством от петлюровцев и ранением Алексея Турбина 14 декабря 1918 г. – писательский вымысел, сам Булгаков ранен не был. Гораздо более драматическим было бегство мобилизованного Булгакова от петлюровцев в ночь со 2-го на 3-е февраля 1919 г., запечатленное в Б. г. в бегстве Алексея Турбина, а в рассказе “В ночь на 3-е число” – в бегстве доктора Бакалейникова. Т. Н. Лаппа запомнила возвращение мужа в эту драматическую ночь: “Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное – нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать.
Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал”. В романе болезнь Алексея Турбина перенесена по времени на период пребывания в Городе петлюровцев, а сцену убийства еврея у Цепного моста он наблюдает, как это и было с писателем, в ночь на 3-е февраля. Приход петлюровцев в Город начинается убийством еврея Фельдмана (как можно судить по киевским газетам того времени, человек с такой фамилией действительно был убит в день вступления украинских войск в Киев) и завершается убийством безымянного еврея, которое Булгакову довелось видеть воочию. Сама жизнь подсказала трагическую композицию Б. г. Писатель в романе утвердил человеческую жизнь как абсолютную ценность, возвышающуюся над всякой национальной и классовой идеологией.
Финал Б. г. заставляет вспомнить “звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас” И. Канта и навеянные им рассуждения князя Андрея Болконского в романе “Война и мир” (1863-1869) Льва Николаевича Толстого (1828-1910). В предназначавшемся к опубликованию в журнале “Россия” тексте заключительные строки романа звучали так: “Над Днепром с грешной, и окровавленной, и снежной земли поднимался в черную и мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.
Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Звезды будут так же неизменны, так же трепетны и прекрасны. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?”
В издании Б. г. 1929 г. “мир” в финале исчез, и стало не столь очевидным, что Булгаков здесь полемизирует со знаменитыми словами Евангелия от Матфея: “Не мир я принес вам, но меч”. Автор Б. г. явно предпочитает мечу мир. Позднее в романе “Мастер и Маргарита” парафраз евангельского изречения был вложен в уста первосвященника Иосифа Каифы, убеждающего Понтия Пилата, что Иешуа Га-Ноцри принес иудейскому народу не мир и покой, а смущение, которое подведет его под римские мечи. И здесь же Булгаков утверждает покой и мир как одну из высших этических ценностей. А в финале Б. г. автор солидарен с Кантом и Львом Толстым: только обращение к надмирному абсолюту, который символизирует звездное небо, может заставить людей следовать категорическому моральному императиву и навсегда отказаться от насилия. Однако, наученный опытом революции и гражданской войны, автор Б. г. вынужден констатировать, что люди не желают взглянуть на звезды над ними и следовать кантовскому императиву. В отличие от Толстого, он не столь большой фаталист в истории. Народные массы в Б. г. играют важную роль в развитии исторического процесса, однако направляются не какой-то высшей силой, как утверждается в “Войне и мире”, а своими собственными внутренними устремлениями, в полном соответствии с мыслью С.Н.Булгакова, высказанной в статье “На пиру богов”: “А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха. Да он и прав по-своему, голод – не тетка”. Народная стихия, поддержавшая Петлюру, оказывается в Б. г. мощной силой, сокрушающей слабую, по-своему тоже стихийную, плохо организованную армию Скоропадского. Именно в недостатке организации обвиняет гетмана Алексей Турбин. Однако эта же народная сила оказывается бессильна перед силой хорошо организованной – большевиками. Организованностью большевиков невольно восхищается Мышлаевский и другие представители белой гвардии. А вот осуждение “наполеонов”, несущих людям страданье и смерть, автор Б. г. с автором “Войны и мира” вполне разделяет, только Петлюра и Троцкий для него не миф, как Наполеон Бонапарт (1769-1821) для Толстого, а реально существующие и по-своему выдающиеся личности, которые вследствие главенствующей роли должны нести и более высокую ответственность за преступления своих подчиненных (впрочем, грядущие преступления ЧК еще только смутно угадываются в снах Алексея Турбина, да и то лишь в неопубликованном варианте романа).
Отметим, что кроме Троцкого, еще один близкий к большевикам персонаж Б. г. имеет демонические черты. Если председатель Реввоенсовета сравнивается с ангелом бездны Аполлионом Откровения Иоанна Богослова и иудейским падшим ангелом Аваддоном (оба слова в переводе с древнегреческого и древнееврейского означают губитель), то Михаил Семенович Шполянский, получающий инструкции из Москвы, уподобляется лермонтовскому демону. Прототипом Шполянского послужил известный писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский (1893-1984). В 1918 г. он находился в Киеве, служил в броневом дивизионе гетмана и, как и Шполянский в Б. г., “засахаривал” броневики, описав все это подробно в мемуарной книге “Сентиментальное путешествие”, вышедшей в Берлине в 1923 г. Правда, Шкловский был тогда не большевиком, а членом боевой левоэсеровской группы, готовившей восстание против Скоропадского. Булгаков приблизил Шполянского к большевикам, памятуя также, что до середины 1918 г. большевики и левые эсеры являлись союзниками, а потом многие из последних вступили в коммунистическую партию.
Из-за того, что в СССР Б. г. не была закончена публикацией, а зарубежные издания конца 20-х годов были малодоступны на родине писателя, первый булгаков-ский роман не удостоился особого внимания прессы. Правда, известный критик А.К.Воронский (1884-1937) в конце 1925 г. успел назвать Б. г. вместе с “Роковыми яйцами” произведениями “выдающегося литературного качества”, за что в начале 1926 г. получил резкую отповедь главы Российской Ассоциации Пролетарских Писателей (РАПП) Л. Л. Авербаха (1903-1939) в рапповском органе – журнале “На литературном посту”. В дальнейшем постановка по мотивам Б. г. пьесы “Дни Турбиных” во МХАТе осенью 1926 г. переключила внимание критики на это произведение, и о самом романе забыли. Булгакова мучили сомнения насчет литературных достоинств Б. г. В дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 г. он зафиксировал их: “Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу”. Вместе с тем существовала и высокая оценка Б. г. авторитетным современником. Поэт Максимилиан Волошин (Кириенко-Волошин) (1877-1932) пригласил Булгакова к себе в Коктебель и 5 июля 1926 г. подарил ему акварель с примечательной надписью: “Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу российской усобицы, с глубокой любовью...” Тот же Волошин в письме издателю альманаха “Недра” Н.С.Ангарскому (Клестову) (1873-1941) в марте 1925 г. утверждал, что “как дебют начинающего писателя “Белую гвардию” можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого”. Булгаков при переделке текста романа в конце 20-х годов убрал некоторые цензурно острые моменты и несколько облагородил ряд действующих лиц, в частности, Мышлаевского и Шервинского, явно с учетом развития этих образов в “Днях Турбиных”. В целом же в пьесе характеры героев оказались психологически более глубокими, не такими рыхлыми, как в романе, и действующие лица теперь не дублировали друг друга.
В письме правительству 28 марта 1930 г. Булгаков называл одной из главных черт своего творчества в Б. г. “упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях “Войны и мира”. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией”. В этом же письме он подчеркнул “свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ”. Отметим, что Булгакову действительно удалось беспристрастно взглянуть на все воюющие стороны гражданской войны с позиции, близкой к философии ненасилия (непротивления злу насилием), развитой Л. Н. Толстым в основном уже после создания “Войны и мира” (в романе эту философию выражает только Платон Каратаев). Однако булгаковская позиция здесь не вполне тождественная толстовской. Алексей Турбин в Б. г. понимает неизбежность и необходимость насилия, однако сам на насилие оказывается неспособен. В окончании Б. г., которое так и не было опубликовано в журнале “Россия”, он, наблюдая бесчинства петлюровцев, обращается к небу: “ – Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики... Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же, вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.
Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, а больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.
– Змилуйтесь, добродию, – вопят они.
Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:
– Нет, товарищи, нет. Я – монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, причем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух надо убить как бешеных собак. Это – негодяи. Гнусные погромщики и грабители.
– А-а... так... – зловеще отвечают матросы.
– Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их. В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому”.
Булгаковский интеллигент убить способен только в воображении, и в жизни предпочитает передоверить эту неприятную обязанность матросам. И даже протестующий крик Турбина: “За что же вы его бьете?!” заглушается шумом толпы на мосту, что, кстати, спасает доктора от расправы. В условиях всеобщего насилия в Б. г. интеллигенция лишена возможности возвысить свой голос против убийств, как лишена возможности сделать это и позднее, в условиях установившегося к моменту создания романа коммунистического режима.
Прототип Тальберга Л.С.Карум оставил обширные воспоминания “Моя жизнь. Рассказ без вранья”, где многие эпизоды своей биографии, отразившиеся в Б. г., изложил в собственной интерпретации. Мемуарист свидетельствует, что он очень рассердил Булгакова и других близких своей жены, явившись на свадьбу в мае 1917 г. (как и свадьба Тальберга с Еленой, она была за полтора года до описываемых в романе событий) в мундире, при всех орденах, но с красной повязкой на рукаве. В Б. г. братья Турбины осуждают Тальберга за то, что он в марте 1917 года “был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова”. Карум действительно был членом исполнительного комитета Киевской городской Думы и участвовал в аресте генерал-адъютанта Н.И.Иванова (1851 – 1919), в начале первой мировой войны командовавшего Юго-Западным фронтом, а в феврале 1917 г. предпринявшего по приказу императора неудачный поход на Петроград для подавления революции. Карум отконвоировал генерала в столицу. Муж сестры Булгакова, как и Тальберг, окончил в Петербурге юридический факультет университета и Военно-юридическую академию. При Скоропадском он, подобно герою Б. г., служил в юридическом отделе военного министерства. В декабре 1917 г. Карум покинул Киев и вместе с братом Булгакова Иваном, которого мать, опасаясь петлюровской мобилизации, отправила с зятем, прибыл в Одессу, а оттуда в Новороссийск. Прототип Тальберга поступил в белую Астраханскую армию, ранее поддерживавшуюся немцами, стал здесь председателем суда и был произведен в полковники. Возможно, это обстоятельство подсказало Булгакову повысить Тальберга до полковника в пьесе “Дни Турбиных”. Бывший начальник штаба Киевского военного округа генерал Н.Э.Бредов, знавший Карума еще по его деятельности в исполнительном комитете киевской Думы, при переходе Астраханской армии в состав Вооруженных сил Юга России генерала А. И. Деникина настоял на его увольнении. Только благодаря влиятельным знакомым Каруму удалось получить должность преподавателя права в Феодосии, куда он и уехал в сентябре 1919 г., забрав с собой из Киева жену. К зятю в Феодосию отправился и брат Булгакова Николай, раненный в октябрьских 1919 г. боях в Киеве. Возможно, это обстоятельство побудило писателя связать будущую судьбу Николки в Б. г. с Перекопом. После прихода красных Карум, не пожелавший эвакуироваться с Русской армией генерала П.Н.Врангеля (1878-1928) в ноябре 1920 г., остался преподавать в стрелковой школе, которая в 1921 г. была переведена в Киев. В отличие от Елены Турбиной в Б. г. и особенно в “Днях Турбиных”, сестра Булгакова Варя мужу не изменяла. Когда в 1931 г. Карум был арестован и позднее сослан в Новосибирск, жена последовала за ним. Сохранилась ее записка, переданная супругу после ареста: “Любимый мой, помни, что вся моя жизнь и любовь для тебя. Твоя Варюша”. Сохранилась любопытнейшая рукопись Л. С. Карума “Горе от таланта” (1967), посвященная анализу булгаковского творчества. Здесь прототип следующим образом характеризовал Тальберга: “Наконец, десятым и последним из белогвардейцев – это генерального штаба капитан Тальберг. Он собственно даже не в белой гвардии, он служит у гетмана. Когда начинается “заваруха”, он садится на поезд и уезжает, не желая принимать участия в борьбе, исход которой для него вполне ясен, но за это навлекает на себя ненависть Турбиных, Мышлаевского и Шервииского. – Почему он не взял с собой жену? Почему он “крысиной походкой” ушел от опасности в неизвестность? Он – “человек без малейшего понятия о чести”. Для белой гвардии Тальберг – личность эпизодическая”. Автор “Горя от таланта” стремится как бы оправдать Тальберга: отказался от участия в безнадежной борьбе, жену не взял с собой, потому что ехал в неизвестность. Самого же писателя Карум характеризовал почти теми же словами, что и враждебная автору Б. г. марксистская критика 20-х годов: “Да, талант Булгакова был именно не столько глубок, сколько блестящ, и талант был большой... И все же произведения Булгакова не народны. В них нет ничего, что затрагивало народ в целом.
Вообще у него народа нет. Есть толпа загадочная и жестокая. В произведениях Булгакова есть известные слои царского офицерства или служащие, или актерская и писательская среда. Но жизнь народа, его радости и горести по Булгакову узнать нельзя. Его талант не был проникнут интересом к народу, марксистско-ленинским миросозерцанием, строгой политической направленностью. После вспышки интереса к нему, в особенности к роману “Мастер и Маргарита”, внимание может потухнуть”. В письме правительству 28 марта 1930 г. Булгаков процитировал сходный с карумовским отзыв критика Р.В.Пикеля, появившийся в “Известиях” 15 сентября 1929 г.: “Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества”.
В «Романе без вранья” Карум следующим образом охарактеризовал свою реакцию на появление Б. г.: «В романе описывается 1918 год в Киеве. Мы журнал «Смену вех” (так Леонид Сергеевич по памяти ошибочно называет журнал «Россия». – Б.С.) не выписывали, поэтому Варенька и Костя (К.П.Булгаков. – Б.С.) купили его в магазине. – “Ну, и не любит же тебя Михаил”, – сказал мне Костя.
Я знал, что Михаил меня не любит, но не знал действительных размеров этой нелюбви, переросшей в подлость. Наконец, я прочел этот злосчастный номер журнала и пришел от него в ужас. Там, среди других, был описан человек, по наружности и некоторым фактам похожий на меня, так что не только родные, но и знакомые узнали в нем меня, по морали этот человек стоял очень низко. Он (Тальберг) при наступлении петлюровцев на Киев бежит в Берлин, бросает семью, армию, в которой служит, поступает как какой-то мерзавец.
В романе описана семья Булгакова. Он описывает случай моей командировки в Лубны во время власти гетмана при петлюровском восстании. Но затем начинается вранье. Героиней романа сделана Варенька. Других сестер нет вовсе. Матери тоже нет. Затем описаны в романе все его собутыльники. Во-первых, Сынгаевский (под фамилией Мышлаевский), это был студент, призванный в армию, красивый и стройный, но больше ничем не отличающийся. Обыкновенный собутыльник. В Киеве он на военной службе не был, затем познакомился с балериной Нежинской, которая танцевала с Мордкиным, и при перемене, одной из перемен власти в Киеве, уехал на ее счет в Париж, где удачно выступал в качестве ее партнера в танцах и мужа, хотя был на 20 лет моложе ее.
Собутыльники были описаны довольно точно, но только с благородной стороны, из-за чего впоследствии было у Булгакова много хлопот.
Во-вторых, описан был Юрий Гладыревский, мой двоюродный племянник, офицер военного времени лейб-гвардии стрелкового полка (под фамилией Шервинский). Он во время гетмана служил в городской милиции, в романе же он выведен в качестве адъютанта гетмана. Это был малоинтеллигентный юноша 19-ти лет, умевший только пить и подпевать Михаилу Булгакову. И голос у него был небольшой, ни для какой сцены не пригодный. Он уехал с родителями во время гражданской войны в Болгарию, и более сведений я о нем не имею.
В-третьих, описан Коля Судзиловский, его тоже можно узнать по внешней обрисовке, бывший в то же время киевским студентом, немного наивный, немного заносчивый и глуповатый юноша, тоже 20-ти лет. Он выведен под именем Лариосика».
Судьба прототипов-“собутыльников” была следующей. Юрий (Георгий) Леонидович Гладыревский (1898-1968) родился 26 января/7 февраля 1898 г. в Либаве (Лиепае) в дворянской семье. В Первую мировую войну он дослужился до чина подпоручика Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка. В последние недели гетманщины он состоял в штабе белогвардейских добровольческих формирований князя Долгорукова (в Б. г. – Белорукова). После прихода в Киев в начале февраля 1919 г. красных Ю.Л.Гладыревский работал в белом подполье и, возможно, при этом служил для маскировки в Красной Армии. Отсюда Шервинский – красный командир в том варианте финала Б. г., который должен был появиться в журнале “Россия». Позднее, очевидно, Булгаков узнал о подлинной судьбе Ю.Л.Гладыревского и убрал из финального образа Шервинского красноармейские атрибуты. После вступления в город 31 августа 1919 г. Добровольческой армии Юрий Леонидович был произведен сразу в капитаны своего родного лейб-гвардейского полка. Во время октябрьских боев в Киеве он был легко ранен. Позднее, в 1920 г., участвовал в боях в Крыму и в Северной Таврии, был еще раз ранен и вместе с Русской армией П.Н. Врангеля эвакуировался в Галлиполи. В эмиграции зарабатывал на жизнь пением и игрой на фортепиано. Умер он 20 марта 1968 г. во французском городе Канны.
Николай Николаевич Сынгаевский, друг детства Булгакова, в отличие от поручика Виктора Мышлаевского, был человеком штатским и в армии никогда не служил, исключая короткий период в последние недели гетманщины. Тогда, по свидетельству Т.Н.Лаппа, он поступил в юнкерское училище и, как и Булгаков, собирался принять участие в боях с входившими в Киев петлюровцами. Сынгаевский жил на Малой Подвальной улице (в романе – Мало-Провальная) и в 1920 г. вместе с родителями эмигрировал в Польшу, а позднее оказался во Франции. Еще в Киеве он окончил балетную школу и в эмиграции работал танцовщиком.
Николай Васильевич Судзиловский, по воспоминаниям его дяди Карума, “был очень шумливый и восторженный человек». Он родился 7/19 августа 1896 г. в деревне Павловка Чаусского уезда Могилевской губернии в имении своего отца, статского советника и уездного предводителя дворянства. В 1916 г. он учился на юридическом факультете Московского университета. В конце года Судзиловский поступил в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков, откуда был исключен за неуспеваемость в феврале 1917 г. и направлен вольноопределяющимся в 180-й запасной пехотный полк. Оттуда он был направлен во Владимирское военное училище в Петрограде, но уже в мае 1917 г. исключен оттуда. Чтобы получить отсрочку от военной службы, Судзиловский женился, а в 1918 г. вместе с женой переехал в Житомир, где находились тогда его родители. Летом 1918 г. прототип Лариосика безуспешно пытался поступить в Киевский университет. В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился 14 декабря 1918 г. – в день падения Скоропадского. К тому времени жена его уже бросила. В 1919 г. Николай Васильевич вступил в ряды Добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна.
Л.С.Карум в своих мемуарах пытался доказать, что он гораздо лучше Тальберга и не лишен понятия о чести, но невольно лишь подтвердил булгаковскую правоту. Чего стоит эпизод с попыткой поцеловать руку арестованному и препровождаемому в Петроград генералу Н.И.Иванову, дабы “выразить старому генералу всю мою симпатию к нему и показать, что не все из окружающих являются его врагами” (этот жест Карум явно делал на тот случай, если власть переменится и Иванов вновь будет командовать). Или сцена в Одессе: “Встретил на улице какого-то знакомого по академии офицера... Он, узнав, что я пять дней должен болтаться один в Одессе, уговорил меня зайти к полковнику Всеволжскому, очень интересному якобы человеку, у которого собирается ежедневно офицерское общество, в будущем долженствующее составить офицерскую дружину или даже возглавить отряд, который пойдет на бой с большевиками.
Мне делать было нечего. Я согласился.
Всеволжский занимал большую квартиру... В комнате человек 20 офицеров... Все молчат, говорит Всеволжский.
Говорит он много и хорошо о предстоящих задачах офицеров в восстановлении России. Уговаривает меня остаться в Одессе и не ехать на Дон.
– Но я здесь займу какую-либо должность и буду получать содержание? – спрашиваю я.
– Нет, – улыбается гвардейский полковник. – Ничего я Вам не могу гарантировать.
– Ну, тогда мне надо ехать, – говорю я. Больше я к нему не заходил”. Из цитированного отрывка ясно, что Карум, как и восходящий к нему герой Б. г., был озабочен только карьерой, пайком и денежным содержанием, а не какими-то идейными соображениями и потому с такой легкостью менял армии в годы революции и гражданской войны.
Фамилия Тальберг, которой наградил Булгаков несимпатичного персонажа Б. г., была весьма одиозной на Украине. Юрист Николай Дмитриевич Тальберг при Скоропадском занимал пост вице-директора полиции – Державной Варты и был ненавидим как петлюровцами, так и большевиками. Накануне вступления в город армии Украинской Народной Республики ему удалось бежать. Возможно он, как и герой Б. г., сумел уехать в Германию.
Тальбергу в Б. г. противопоставлены братья Турбины, готовые вступить в безнадежную борьбу с петлюровцами и только после краха сопротивления осознающие обреченность белого дела. Причем, если старший, списанный с самого автора Б. г., отходит от борьбы, то младший явно готов ее продолжать и, вероятно, погибнет на Перекопе. Николка имел прототипами младших братьев Булгакова – главным образом Николая, но частично и Ивана. Оба они участвовали в белом движении, были ранены, сражались до конца. Иван, интернированный в Польше вместе с войсками генерала Н.Э.Бредова (1883 – после 1944), позднее добровольно вернулся в Крым к генералу Врангелю и оттуда уже отправился в эмиграцию. Николай же, скорее всего, по ранению эвакуированный в Крым, служил вместе с Л.С.Карумом в Феодосии. Однако негативного отношения к мужу сестры у него не было. В письме матери из Загреба 16 января 1922 г. Н.А.Булгаков упоминает встречи “у Варюши с Леней” с двоюродным братом Константином Петровичем Булгаковым (1892- после 1950) во время службы в Добровольческой армии (в середине 20-х К.П.Булгаков эмигрировал и стал инженером-нефтяником в Мексике). Очевидно, встреча Н.А.Булгакова с Л.С.Карумом произошла в Феодосии, где он жил вместе с Варей.
Образом молочницы Явдохи автор Б. г. продолжает традицию изображения здорового начала в народной жизни, противопостовляя ее стяжателю Василисе, тайно вожделеющему молодую красавицу. Здесь заметно влияние известного рассказа “Явдоха” (1914) сатирической писательницы Надежды Тэффи (Лохвицкой) (1872-1952). Позднее, в предисловии к сборнику “Неживой зверь” (1916), она следующим образом изложила содержание рассказа: “Осенью 1914 года напечатала я рассказ “Явдоха”. В рассказе, очень и грустном и горьком, говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой, и такой беспросветно темной, что, когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала – пришлет он ей денег или нет. И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фельетона, в которых негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.
– Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! – возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла:
– И это, по ее мнению, смешно?
– И это тоже смешно?
Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. Но как могла я сказать?”
Возможно, Булгакова привлекло в данном предисловии сходство с Б. г., где он, в отличие от фельетонов и сатирических повестей, ни минуты не смеялся и рассказывал о вещах трагических. Свою Явдоху Булгаков сделал цветущей молодухой, которую вожделеет скаредный Василиса, причем в его воображении она предстает “голой, как ведьма на горе”.
Единственный героический персонаж Б. г. – полковник Най-Турс, судя по всему, имел весьма конкретного и неожиданного прототипа. Своему другу П. С. Попову Булгаков говорил во второй половине 20-х годов, что “Най-Турс – образ отдаленный, отвлеченный. Идеал русского офицерства. Каким бы должен быть в моем представлении русский офицер». Из этого признания обычно делают вывод, что настоящих прототипов у Най-Турса не было, поскольку среди участников белого движения будто бы не могло быть настоящих героев. Между тем прототип, возможно, существовал, но называть вслух его имя в 20-е годы и позднее было небезопасно.
Вот биография одного из видных кавалерийских командиров Вооруженных Сил Юга России, имеющая явные параллели с биографией романного Най-Турса. Она написана парижским историком-эмигрантом Николаем Николаевичем Рутычем (Рутченко) (1916 г. рождения) и помещена в составленный им “Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России” (1997): “Шинкаренко Николай Всеволодович (лит. псевдоним – Николай Белогорский) (1890-1968). Генерал-майор… В 1912-1913 гг. участвовал добровольцем в болгарской армии в войне против Турции… Был награжден орденом “За храбрость” – за проявленное отличие при осаде Адрианополя. На фронт Первой мировой войны вышел в составе 12-го Уланского Белгородского полка, командуя эскадроном… Георгиевский кавалер и подполковник в конце войны. В Добровольческую армию прибыл одним из первых в ноябре 1917 г. В феврале 1918 г. был тяжело ранен (в ногу. – Б.С.), заменяя пулеметчика в бронепоезде в бою у Новочеркасска”.
- Панорама Битва за Броды (1944)
- Храм спаса преображения в богородском
- Вкусные рецепты приготовления замороженной брокколи
- Как приготовить домашнюю колбасу и где купить череву
- Видеть во сне мертвых мышей что означает
- Лучшие рецепты для сушки яблок на зиму в домашних условиях, какие фрукты выбрать
- Вкусная и полезная закуска - квашеные яблоки
- Драники в горшочках с мясом и сметаной
- Окрошка на воде с майонезом
- Пышные оладьи на кефире приготовленные по домашнему — пошаговые рецепты с фото
- Гречка с мясом в казане: рецепты приготовления
- Виды и строение мышц человека
- Причины возникновения зевоты у людей и способы избавления
- Значение и роль жирорастворимых витаминов для организма человека Жирорастворимые витамины их роль
- Хлористый калий (хлорид калия)
- В моче появляется кровь после занятий бегом
- Интерактивные методы обучения на уроках в начальной школе
- Игра угадай кто я: примеры для взрослых Угадай кто распечатать
- «22 июня – скорбь - память - история
- Церковь во имя смоленской иконы божией матери на васильевском острове Фото церкви Смоленской иконы Божьей Матери