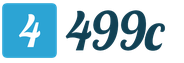Ю.М.Лотман. Быт и традиции русского дворянства. Бал. Ю. M. Лотман Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)
Ю. M. Лотман
БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)
Светлой памяти родителей моих Александры Самойловны и Михаила Львовича Лотманов
Издание выпущено в свет при содействии Федеральной целевой программы книгоиздания России и международного фонда «Культурная инициатива».
«Беседы о русской культуре» принадлежат перу блестящего исследователя русской культуры Ю. М. Лотмана. В свое время автор заинтересованно откликнулся на предложение «Искусства - СПБ» подготовить издание на основе цикла лекций, с которыми он выступал на телевидении. Работа велась им с огромной ответственностью - уточнялся состав, главы расширялись, появлялись новые их варианты. Автор подписал книгу в набор, но вышедшей в свет ее не увидел - 28 октября 1993 года Ю. М. Лотман умер. Его живое слово, обращенное к многомиллионной аудитории, сохранила эта книга. Она погружает читателя в мир повседневной жизни русского дворянства XVIII - начала XIX века. Мы видим людей далекой эпохи в детской и в бальном зале, на поле сражения и за карточным столом, можем детально рассмотреть прическу, покрой платья, жест, манеру держаться. Вместе с тем повседневная жизнь для автора - категория историко-психологическая, знаковая система, то есть своего рода текст. Он учит читать и понимать этот текст, где бытовое и бытийное неразделимы.
«Собранье пестрых глав», героями которых стали выдающиеся исторические деятели, царствующие особы, рядовые люди эпохи, поэты, литературные персонажи, связано воедино мыслью о непрерывности культурно-исторического процесса, интеллектуальной и духовной связи поколений.
В специальном выпуске тартуской «Русской газеты», посвященном кончине Ю. М. Лотмана, среди его высказываний, записанных и сбереженных коллегами и учениками, находим слова, которые содержат квинтэссенцию его последней книги: «История проходит через Дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а „самостоянье человека“ превращает его в историческую личность».
Издательство благодарит Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей, безвозмездно предоставившие гравюры, хранящиеся в их фондах, для воспроизведения в настоящем издании.
ВВЕДЕНИЕ:
Быт и культура
Посвятив беседы русскому быту и культуре XVIII - начала XIX столетия, мы прежде всего должны определить значение понятий «быт», «культура», «русская культура XVIII - начала XIX столетия» и их отношения между собой. При этом оговоримся, что понятие «культура», принадлежащее к наиболее фундаментальным в цикле наук о человеке, само может стать предметом отдельной монографии и неоднократно им становилось. Было бы странно, если бы мы в предлагаемой книге задались целью решать спорные вопросы, связанные с этим понятием. Оно очень емкое: включает в себя и нравственность, и весь круг идей, и творчество человека, и многое другое. Для нас будет вполне достаточно ограничиться той стороной понятия «культура», которая необходима для освещения нашей, сравнительно узкой темы.
Культура, прежде всего, - понятие коллективное. Отдельный человек может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее по своей природе культура, как и язык, - явление общественное, то есть социальное .
Следовательно, культура есть нечто общее для какого-либо коллектива - группы людей, живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются. (Организационная структура, объединяющая людей, живущих в одно время, называется синхронной, и мы в дальнейшем будем пользоваться этим понятием при определении ряда сторон интересующего нас явления).
Всякая структура, обслуживающая сферу социального общения, есть язык. Это означает, что она образует определенную систему знаков, употребляемых в соответствии с известными членам данного коллектива правилами. Знаками же мы называем любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и т. д.), которое имеет значение и, таким образом, может служить средством передачи смысла.
Следовательно, культура имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, символическую природу. Остановимся на этой последней. Подумаем о таком простом и привычном, как хлеб. Хлеб веществен и зрим. Он имеет вес, форму, его можно разрезать, съесть. Съеденный хлеб вступает в физиологический контакт с человеком. В этой его функции про него нельзя спросить: что он означает? Он имеет употребление, а не значение. Но когда мы произносим: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», - слово «хлеб» означает не просто хлеб как вещь, а имеет более широкое значение: «пища, потребная для жизни». А когда в Евангелии от Иоанна читаем слова Христа: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать» (Иоанн, 6:35), то перед нами - сложное символическое значение и самого предмета, и обозначающего его слова.
Меч также не более чем предмет. Как вещь он может быть выкован или сломан, его можно поместить в витрину музея, и им можно убить человека. Это все - употребление его как предмета, но когда, будучи прикреплен к поясу или поддерживаемый перевязью помещен на бедре, меч символизирует свободного человека и является «знаком свободы», он уже предстает как символ и принадлежит культуре.
В XVIII веке русский и европейский дворянин не носит меча - на боку его висит шпага (иногда крошечная, почти игрушечная парадная шпага, которая оружием практически не является). В этом случае шпага - символ символа: она означает меч, а меч означает принадлежность к привилегированному сословию.
Принадлежность к дворянству означает и обязательность определенных правил поведения, принципов чести, даже покроя одежды. Мы знаем случаи, когда «ношение неприличной дворянину одежды» (то есть крестьянского платья) или также «неприличной дворянину» бороды делались предметом тревоги политической полиции и самого императора.
Шпага как оружие, шпага как часть одежды, шпага как символ, знак дворянства - всё это различные функции предмета в общем контексте культуры.
В разных своих воплощениях символ может одновременно быть оружием, пригодным для прямого практического употребления, или полностью отделяться от непосредственной функции. Так, например, маленькая специально предназначенная для парадов шпага исключала практическое применение, фактически являясь изображением оружия, а не оружием. Сфера парада отделялась от сферы боя эмоциями, языком жеста и функциями. Вспомним слова Чацкого: «Пойду на смерть как на парад». Вместе с тем в «Войне и мире» Толстого мы встречаем в описании боя офицера, ведущего своих солдат в сражение с парадной (то есть бесполезной) шпагой в руках. Сама биполярная ситуация «бой - игра в бой» создавала сложные отношения между оружием как символом и оружием как реальностью. Так шпага (меч) оказывается вплетенной в систему символического языка эпохи и становится фактом ее культуры.
А вот еще один пример, в Библии (Книга Судей, 7:13–14) читаем: «Гедеон пришел [и слышит]. И вот, один рассказывает другому сон, и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: это не иное что, как меч Гедеона…» Здесь хлеб означает меч, а меч - победу. И поскольку победа была одержана с криком «Меч Господа и Гедеона!», без единого удара (мадиамитяне сами побили друг друга: «обратил Господь меч одного на другого во всем стане»), то меч здесь - знак силы Господа, а не военной победы.
Итак, область культуры - всегда область символизма.
У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет…
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры.
И ревом скрыпок заглушён
Ревнивый шопот модных жен.
(1, XXVII–XXVIII)
Танцы были важным структурным элементом дворянского быта. Их роль существенно отличалась как от функции танцев в народном быту того времени, так и от современной.
В жизни русского столичного дворянина XVIII – начала XIX века время разделялось на две половины: пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам – здесь дворянин выступал как частное лицо; другую половину занимала служба – военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день «собрании» – на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе – он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих.
Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, противоположной службе – областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» – «…в обществе жить не есть не делать ничего».
Со времени петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу (от входа в залу до разъезда) соответствовали типовые эмоции, фиксированные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение «порядка» и «свободы».
Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил, «увлекательного разговора высшей образованности» (Пушкин, VIII (1), 151), который культивировался в литературных салонах Парижа в XVIII столетии и на отсутствие которого в России жаловался Пушкин. Тем не менее он имел свою прелесть – оживленность, свободу и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в невозможной в других обстоятельствах близости («Верней нет места для признаний…» – 1, XXIX).
Обучение танцам начиналось рано – с пяти-шести лет. Так, например, Пушкин начал учиться танцам уже в 1808 году. До лета 1811 года он с сестрой посещал танцевальные вечера у Трубецких-Бутурлиных и Сушковых, а по четвергам – детские балы у московского танцмейстера Иогеля. Балы у Иогеля описаны в воспоминаниях балетмейстера А. П. Глушковского.
Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфебелем. Составитель «Правил», изданных в 1825 году, Л. Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не саму методу, а лишь ее слишком жесткое применение: «Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги вбок, подобно ему, в параллельной линии.
Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные; то учитель, не могши сам ничего сделать, почел за долг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колена. Сколько сей ни кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели – пока наконец не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его.
Я почел за долг рассказать сей случай для предостережения других. Неизвестно, кто выдумал станки для ног; и станки на винтах для ног, колен и спины: изобретение очень хорошее! Однако и оно может сделаться небезвредным от лишнего напряжения».
Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человека: в условном мире светского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Л. Н. Толстой, описывая в романе «Декабристы» вернувшуюся из Сибири жену декабриста, подчеркивает, что, несмотря на долгие годы, проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, «нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться – этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было – не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом…». Характерно, что способность споткнуться здесь связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключают возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Аристократической простоте движений людей «хорошего общества» и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязность (результат борьбы с собственной застенчивостью) жестов разночинца. Яркий пример этого сохранили мемуары Герцена. По воспоминаниям Герцена, «Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе». Герцен описывает характерный случай на одном из литературных вечеров у кн. В. Ф. Одоевского: «Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимающим ни слова по-русски и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.
Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым „позументом“, сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальную часть панталон, другой подбирал разбитые рюмки… Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой».
Бал в начале XIX века начинался польским (полонезом), который в торжественной функции первого танца сменил менуэт. Менуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией. «Со времени перемен, последовавших у европейцев как в одежде, так и в образе мыслей, явились новости и в танцах; и тогда польской, который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар, а потому освобождает от излишней и строгой выдержки, свойственной менуэту, занял место первоначального танца».
С полонезом можно, вероятно, связать не включенную в окончательный текст «Евгения Онегина» строфу восьмой главы, вводящую в сцену петербургского бала великую княгиню Александру Федоровну (будущую императрицу); ее Пушкин именует Лаллой-Рук по маскарадному костюму героини поэмы Т. Мура, который она надела во время маскарада в Берлине.
После стихотворения Жуковского «Лалла-Рук» имя это стало поэтическим прозванием Александры Федоровны:
И в зале яркой и богатой
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется и скользит
Звезда – Харита меж Харит,
И взор смешенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя, –
Для них без глаз один Евг<ений>;
Одной Т<атьяной> поражен,
Одну Татьяну
видит он.
(Пушкин, VI, 637)
Бал не фигурирует у Пушкина как официально-парадное торжество, и поэтому полонез не упомянут. В «Войне и мире» Толстой, описывая первый бал Наташи, противопоставит полонез, который открывает «государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома» («за ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом министры, разные генералы»), второму танцу – вальсу, который становится моментом торжества Наташи.
Второй бальный танец – вальс. Пушкин характеризовал его так:
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
(5, XLI)
Эпитеты «однообразный и безумный» имеют не только эмоциональный смысл. «Однообразный» – поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца-игры котильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что «в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас». Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл: вальс, несмотря на всеобщее распространение (Л. Петровский считает, что «излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется»), пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности <...> чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие». Еще определеннее писала Жанлис в «Критическом и систематическом словаре придворного этикета»: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом! Вот что такое этот вальс!.. <...> Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы».
Не только скучная моралистка Жанлис, но и пламенный Вертер Гёте считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя.
Вальс создавал для нежных объяснений особенно удобную обстановку: близость танцующих способствовала интимности, а соприкосновение рук позволяло передавать записки. Вальс танцевали долго, его можно было прерывать, присаживаться и потом снова включаться в очередной тур. Таким образом, танец создавал идеальные условия для нежных объяснений:
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
(1, XXIX)
Однако слова Жанлис интересны еще и в другом отношении: вальс противопоставляется классическим танцам как романтический; страстный, безумный, опасный и близкий к природе, он противостоит этикетным танцам старого времени. «Простонародность» вальса ощущалась остро: «Wiener Walz, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правой, да на левой ноге и притом так скоро, как шалёной, танцевали; после чего предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию или какому другому». Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный.
Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений. Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров. При этом следует иметь в виду, что разговор, беседа составляла не меньшую часть танца, чем движение и музыка. Выражение «мазурочная болтовня» не было пренебрежительным. Непроизвольные шутки, нежные признания и решительные объяснения распределялись по композиции следующих друг за другом танцев. Интересный пример смены темы разговора в последовательности танцев находим в «Анне Карениной». «Вронский с Кити прошел несколько туров вальса». Толстой вводит нас в решительную минуту в жизни Кити, влюбленной во Вронского. Она ожидает с его стороны слов признания, которые должны решить ее судьбу, но для важного разговора необходим соответствующий ему момент в динамике бала. Его возможно вести отнюдь не в любую минуту и не при любом танце. «Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор». «Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться».
<...> Мазурка составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим кульминацию танца. И солист, и распорядитель мазурки должны были проявлять изобретательность и способность импровизировать. «Шик мазурки состоит в том, что кавалер даму берет себе на грудь, тут же ударяя себя пяткой в centre de gravité (чтобы не сказать задница), летит на другой конец зала и говорит: „Мазуречка, пане“, а дама ему: „Мазуречка, пан“. <...> Тогда неслись попарно, а не танцевали спокойно, как теперь». В пределах мазурки существовало несколько резко выраженных стилей. Отличие между столицей и провинцией выражалось в противопоставлении «изысканного» и «бравурного» исполнения мазурки:
Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
(5, XXII)
«Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать, так, что, когда в одном публичном собрании, где находилось слишком двести молодых людей мужского пола, заиграла музыка мазурку <...> подняли такую стукотню, что и музыку заглушили».
Но существовало и другое противопоставление. Старая «французская» манера исполнения мазурки требовала от кавалера легкости прыжков, так называемых антраша (Онегин, как помнит читатель, «легко мазурку танцевал»). Антраша, по пояснению одного танцевального справочника, «скачок, в котором нога об ногу ударяется три раза в то время, как тело бывает в воздухе». Французская, «светская» и «любезная» манера мазурки в 1820-е годы стала сменяться английской, связанной с дендизмом. Последняя требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал.
«… И вообще ни один фешенебельный кавалер сейчас не танцует, это не полагается! – Вот как? – удивленно спросил мистер Смит <...> – Нет, клянусь честью, нет! – пробормотал мистер Ритсон. – Нет, разве что пройдутся в кадрили или повертятся в вальсе <...> нет, к черту танцы, это очень уж вульгарно!» В воспоминаниях Смирновой-Россет рассказан эпизод ее первой встречи с Пушкиным: еще институткой она пригласила его на мазурку. Пушкин молча и лениво пару раз прошелся с ней по залу. То, что Онегин «легко мазурку танцевал», показывает, что его дендизм и модное разочарование были в первой главе «романа в стихах» наполовину поддельными. Ради них он не мог отказаться от удовольствия попрыгать в мазурке.
Декабрист и либерал 1820-х годов усвоили себе «английское» отношение к танцам, доведя его до полного отказа от них. В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг (со шпагой нельзя было танцевать, офицер, желающий танцевать, отстегивал шпагу и оставлял ее у швейцара. – Ю. Л.) – нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами» (VIII (1), 55). На серьезных дружеских вечерах у Липранди не было танцев. Декабрист Н. И. Тургенев писал брату Сергею 25 марта 1819 года о том удивлении, которое вызвало у него известие, что последний танцевал на балу в Париже (С. И. Тургенев находился во Франции при командующем русским экспедиционным корпусом графе М. С. Воронцове): «Ты, я слышу, танцуешь. Гр[афу] Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une écossaise constitutionelle, indpéndante, ou une contredanse monarchique ou une danse contre-monarchique» (конституционный экосез, экосез независимый, монархический контрданс или антимонархический танец – игра слов заключается в перечислении политических партий: конституционалисты, независимые, монархисты – и употреблении приставки «контр» то как танцевального, то как политического термина). С этими же настроениями связана жалоба княгини Тугоуховской в «Горе от ума»: «Танцовщики ужасно стали редки!»
Противоположность между человеком, рассуждающим об Адаме Смите, и человеком, танцующим вальс или мазурку, подчеркивалась ремаркой после программного монолога Чацкого: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием». Стихи Пушкина:
Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою…
(5, XLIII, XLIV)
Имеют в виду одну из фигур мазурки: к кавалеру (или даме) подводят двух дам (или кавалеров) с предложением выбрать. Выбор себе пары воспринимался как знак интереса, благосклонности или (как истолковал Ленский) влюбленности. Николай I упрекал Смирнову-Россет: «Зачем ты меня не выбираешь?» В некоторых случаях выбор был сопряжен с угадыванием качеств, загаданных танцорами: «Подошедшие к ним три дамы с вопросами – oubli ou regret – прервали разговор…» (Пушкин, VIII (1), 244). Или в «После бала» Л. Толстого: «…мазурку я танцевал не с нею/ <...> Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне».
Котильон – вид кадрили, один из заключающих бал танцев – танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец. «… Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится.
Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок высоко…»
Бал был не единственной возможностью весело и шумно провести ночь. Альтернативой ему были:
…игры юношей разгульных,
Грозы дозоров караульных…
(Пушкин, VI, 621)
Холостые попойки в компании молодых гуляк, офицеров-бретеров, прославленных «шалунов» и пьяниц. Бал, как приличное и вполне светское времяпровождение, противопоставлялся этому разгулу, который, хотя и культивировался в определенных гвардейских кругах, в целом воспринимался как проявление «дурного тона», допустимое для молодого человека лишь в определенных, умеренных пределах. М. Д. Бутурлин, склонный к вольной и разгульной жизни, вспоминал, что был момент, когда он «не пропускал ни одного бала». Это, пишет он, «весьма радовало мою мать, как доказательство, que j"avais pris le goût de la bonne société». Однако вкус к бесшабашной жизни взял верх: «Бывали у меня на квартире довольно частые обеды и ужины. Гостями моими были некоторые из наших офицеров и штатские петербургские мои знакомые, преимущественно из иностранцев; тут шло, разумеется, разливное море шампанского и жженки. Но главная ошибка моя была в том, что после первых визитов с братом в начале приезда моего к княгине Марии Васильевне Кочубей, Наталье Кирилловне Загряжской (весьма много тогда значившей) и к прочим в родстве или прежнем знакомстве с нашим семейством я перестал посещать это высокое общество. Помню, как однажды, при выходе из французского Каменноостровского театра, старая моя знакомая Елисавета Михайловна Хитрова, узнав меня, воскликнула: „Ах, Мишель!“ А я, чтобы избегнуть встречи и экспликаций с нею, чем спуститься с лестницы перестиля, где происходила эта сцена, повернул круто направо мимо колонн фасада; но так как схода на улицу там никакого не было, то я и полетел стремглав на землю с порядочной весьма высоты, рискуя переломить руку или ногу. Вкоренились, к несчастию, во мне привычки разгульной и нараспашку жизни в кругу армейских товарищей с поздними попойками по ресторанам, и потому выезды в великосветские салоны отягощали меня, вследствие чего немного прошло месяцев, как члены того общества решили (и не без оснований), что я малый, погрязший в омуте дурного общества».
Поздние попойки, начинаясь в одном из петербургских ресторанов, оканчивались где-нибудь в «Красном кабачке», стоявшем на седьмой версте по Петергофской дороге и бывшем излюбленным местом офицерского разгула.
Жестокая картежная игра и шумные походы по ночным петербургским улицам дополняли картину. Шумные уличные похождения – «гроза полуночных дозоров» (Пушкин, VIII, 3) – были обычным ночным занятием «шалунов». Племянник поэта Дельвига вспоминает: «… Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее…
Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению». В том же духе, хотя и несколько позже – в самом конце 1820-х годов, Бутурлин с приятелями сорвал с двуглавого орла (аптечной вывески) скипетр и державу и шествовал с ними через центр города. Эта «шалость» уже имела достаточно опасный политический подтекст: она давала основания для уголовного обвинения в «оскорблении величества». Не случайно знакомый, к которому они в таком виде явились, «никогда не мог вспомнить без страха это ночное наше посещение».
Если это похождение сошло с рук, то за попытку накормить в ресторане супом бюст императора последовало наказание: штатские друзья Бутурлина были сосланы в гражданскую службу на Кавказ и в Астрахань, а он переведен в провинциальный армейский полк.
Это не случайно: «безумные пиры», молодежный разгул на фоне аракчеевской (позже николаевской) столицы неизбежно окрашивались в оппозиционные тона (см. главу «Декабрист в повседневной жизни»).
Бал обладал стройной композицией. Это было как бы некоторое праздничное целое, подчиненное движению от строгой формы торжественного балета к вариативным формам хореографической игры. Однако для того, чтобы понять смысл бала как целого, его следует осознать в противопоставлении двум крайним полюсам: параду и маскараду.
Парад в том виде, какой он получил под влиянием своеобразного «творчества» Павла I и Павловичей: Александра, Константина и Николая, представлял собой своеобразный, тщательно продуманный ритуал. Он был противоположен сражению. И фон Бок был прав, назвав его «торжеством ничтожества». Бой требовал инициативы, парад – подчинения, превращающего армию в балет. В отношении к параду бал выступал как нечто прямо противоположное. Подчинению, дисциплине, стиранию личности бал противопоставлял веселье, свободу, а суровой подавленности человека – радостное его возбуждение. В этом смысле хронологическое течение дня от парада или подготовки к нему – экзерциции, манежа и других видов «царей науки» (Пушкин) – к балету, празднику, балу представляло собой движение от подчиненности к свободе и от жесткого однообразия к веселью и разнообразию.
Однако и бал подчинялся твердым законам. Степень жесткости этого подчинения была различной: между многотысячными балами в Зимнем дворце, приуроченными к особо торжественным датам, и небольшими балами в домах провинциальных помещиков с танцами под крепостной оркестр или даже под скрипку, на которой играл немец-учитель, проходил долгий и многоступенчатый путь. Степень свободы была на разных ступенях этого пути различной. И все же то, что бал предполагал композицию и строгую внутреннюю организацию, ограничивало свободу внутри него. Это вызвало необходимость еще одного элемента, который сыграл бы в этой системе роль «организованной дезорганизации», запланированного и предусмотренного хаоса. Такую роль принял на себя маскарад.
Маскарадное переодевание в принципе противоречило глубоким церковным традициям. В православном сознании это был один из наиболее устойчивых признаков бесовства. Переодевание и элементы маскарада в народной культуре допускались лишь в тех ритуальных действах рождественского и весеннего циклов, которые должны были имитировать изгнание бесов и в которых нашли себе убежище остатки языческих представлений. Поэтому европейская традиция маскарада проникала в дворянский быт XVIII века с трудом или же сливалась с фольклорным ряженьем.
Как форма дворянского празднества, маскарад был замкнутым и почти тайным весельем. Элементы кощунства и бунта проявились в двух характерных эпизодах: и Елизавета Петровна, и Екатерина II, совершая государственные перевороты, переряжались в мужские гвардейские мундиры и по-мужски садились на лошадей. Здесь ряженье принимало символический характер: женщина – претендентка на престол превращалась в императора. С этим можно сравнить использование Щербатовым применительно к одному лицу – Елизавете – в разных ситуациях именований то в мужском, то в женском роде.
От военно-государственного переодевания следующий шаг вел к маскарадной игре. Можно было бы вспомнить в этом отношении проекты Екатерины II. Если публично проводились такие маскарадные ряженья, как, например, знаменитая карусель, на которую Григорий Орлов и другие участники явились в рыцарских костюмах, то в сугубой тайне, в закрытом помещении Малого Эрмитажа, Екатерина находила забавным проводить совсем другие маскарады. Так, например, собственной рукой она начертала подробный план праздника, в котором для мужчин и женщин были бы сделаны отдельные комнаты для переодевания, так чтобы все дамы вдруг появлялись в мужских костюмах, а все кавалеры – в дамских (Екатерина была здесь не бескорыстна: такой костюм подчеркивал ее стройность, а огромные гвардейцы, конечно, выглядели бы комически).
Маскарад, с которым мы сталкиваемся, читая лермонтовскую пьесу, – петербургский маскарад в доме Энгельгардта на углу Невского и Мойки – имел прямо противоположный характер. Это был первый в России публичный маскарад. Посещать его могли все, внесшие плату за входной билет. Принципиальное смешение посетителей, социальные контрасты, дозволенная распущенность поведения, превратившая энгельгардтовские маскарады в центр скандальных историй и слухов, – все это создавало пряный противовес строгости петербургских балов.
Напомним шутку, которую Пушкин вложил в уста иностранца, сказавшего, что в Петербурге нравственность гарантирована тем, что летние ночи светлы, а зимние холодны. Для энгельгардтовских балов этих препятствий не существовало. Лермонтов включил в «Маскарад» многозначительный намек:
Арбенин
Рассеяться б и вам и мне не худо.
Ведь нынче праздники и, верно, маскерад
У Энгельгардта…
<...>
Князь
Там женщины есть… чудо…
И даже там бывают, говорят…
Арбенин
Пусть говорят, а нам какое дело?
Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, – есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств срывают смело.
Роль маскарада в чопорном и затянутом в мундир николаевском Петербурге можно сравнить с тем, как пресыщенные французские придворные эпохи Регентства, исчерпав в течение долгой ночи все формы утонченности, отправлялись в какой-нибудь грязный кабак в сомнительном районе Парижа и жадно пожирали зловонные вареные немытые кишки. Именно острота контраста создавала здесь утонченно-пресыщенное переживание.
На слова князя в той же драме Лермонтова: «Все маски глупые» – Арбенин отвечает монологом, прославляющим неожиданность и непредсказуемость, которую вносит маска в чопорное общество:
Да маски глупой нет:
Молчит…
Таинственна, заговорит – так мило.
Вы можете придать ее словам
Улыбку, взор, какие вам угодно…
Вот, например, взгляните там –
Как выступает благородно
Высокая турчанка… как полна,
Как дышит грудь ее и страстно и свободно!
Вы знаете ли, кто она?
Быть может, гордая графиня иль княжна,
Диана в обществе… Венера в маскераде,
И также может быть, что эта же краса
К вам завтра вечером придет на полчаса.
Парад и маскарад составляли блистательную раму картины, в центре которой располагался бал.
Ч ПФДЕМШОЩИ РПЪЙГЙСИ, ЧУЕЗДБ СЧМСАЭЙИУС ЙУЛМАЮЕОЙЕН ЙЪ РТБЧЙМБ, НПЦОП ЗПЧПТЙФШ П ЛХМШФХТЕ ПДОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ. оП ФПЗДБ УМЕДХЕФ ХФПЮОЙФШ, ЮФП НЩ ЙНЕЕН ДЕМП У ЛПММЕЛФЙЧПН, УПУФПСЭЙН ЙЪ ПДОПК МЙЮОПУФЙ. хЦЕ ФП, ЮФП ЬФБ МЙЮОПУФШ ОЕЙЪВЕЦОП ВХДЕФ РПМШЪПЧБФШУС СЪЩЛПН, ЧЩУФХРБС ПДОПЧТЕНЕООП ЛБЛ ЗПЧПТСЭЙК Й УМХЫБАЭЙК, УФБЧЙФ ЕЕ Ч РПЪЙГЙА ЛПММЕЛФЙЧБ. фБЛ, ОБРТЙНЕТ, ТПНБОФЙЛЙ ЮБУФП ЗПЧПТЙМЙ П РТЕДЕМШОПК ЙОДЙЧЙДХБМШОПУФЙ УЧПЕК ЛХМШФХТЩ, П ФПН, ЮФП Ч УПЪДБЧБЕНЩИ ЙНЙ ФЕЛУФБИ УБН БЧФПТ СЧМСЕФУС, Ч ЙДЕБМЕ, ЕДЙОУФЧЕООЩН УЧПЙН УМХЫБФЕМЕН (ЮЙФБФЕМЕН). пДОБЛП Й Ч ЬФПК УЙФХБГЙЙ ТПМЙ ЗПЧПТСЭЕЗП Й УМХЫБАЭЕЗП, УЧСЪЩЧБАЭЙК ЙИ СЪЩЛ ОЕ ХОЙЮФПЦБАФУС, Б ЛБЛ ВЩ РЕТЕОПУСФУС ЧОХФТШ ПФДЕМШОПК МЙЮОПУФЙ: «ч ХНЕ УЧПЕН С УПЪДБМ НЙТ ЙОПК // й ПВТБЪПЧ ЙОЩИ УХЭЕУФЧПЧБОШЕ» (мЕТНПОФПЧ н. а. уПЮ. Ч 6-ФЙ Ф. н.; м., 1954, Ф. 1, У. 34).
гЙФБФЩ РТЙЧПДСФУС РП ЙЪДБОЙСН, ЙНЕАЭЙНУС Ч ВЙВМЙПФЕЛЕ БЧФПТБ, У УПИТБОЕОЙЕН ПТЖПЗТБЖЙЙ Й РХОЛФХБГЙЙ ЙУФПЮОЙЛБ.
пТЙЗЙОБМШОЩК ФЕЛУФ ЙНЕЕФ РТЙНЕЮБОЙС, УПДЕТЦБЭЙЕУС Ч ЛПОГЕ ЛОЙЗЙ Й РТПОХНЕТПЧБООЩЕ РП ЗМБЧБН, Б ФБЛЦЕ РПДУФТПЮОЩЕ УОПУЛЙ ПВПЪОБЮЕООЩЕ ЪЧЕЪДПЮЛБНЙ. дМС ХДПВУФЧБ ЧПУРТЙСФЙС Ч ОБЫЕН УМХЮБЕ РПУФТБОЙЮОЩЕ УОПУЛЙ РПМХЮЙМЙ УЛЧПЪОХА, ОП ПФДЕМШОХА ОХНЕТБГЙА. рПУФТБОЙЮОЩЕ УОПУЛЙ, ПВПЪОБЮЕООЩЕ Ч ЛОЙЗЕ ПРТЕДЕМЕООЩН ЛПМЙЮЕУФЧПН ЪЧЕЪДПЮЕЛ, ЪДЕУШ ЙНЕАФ РПТСДЛПЧЩК ОПНЕТ УП ЪЧЕЪДПЮЛПК (ОБРТЙНЕТ, 1*, 2* Й Ф.Д.). – ТЕДБЛГЙС ьрй «пФЛТЩФЩК ФЕЛУФ»
РХЫЛЙО б. у. рПМО. УПВТ. УПЮ. Ч 16-ФЙ Ф. [н.; м. ], 1937—1949, Ф. 11, У. 40. дБМЕЕ ЧУЕ УУЩМЛЙ ОБ ЬФП ЙЪДБОЙЕ ДБАФУС Ч ФЕЛУФЕ УПЛТБЭЕООП: рХЫЛЙО, ФПН, ЛОЙЗБ, УФТБОЙГБ. уУЩМЛЙ ОБ «еЧЗЕОЙС пОЕЗЙОБ» ДБАФУС Ч ФЕЛУФЕ, У ХЛБЪБОЙЕН ЗМБЧЩ (БТБВУЛПК ГЙЖТПК) Й УФТПЖЩ (ТЙНУЛПК).
ОЕУНПФТС ОБ ЧТБЦДЕВОПЕ ПФОПЫЕОЙЕ Л РПРЩФЛБН ГЕТЛПЧОЩИ ДЕСФЕМЕК ЧМЙСФШ ОБ ЗПУХДБТУФЧЕООХА ЧМБУФШ, ОБ ЙЪЧЕУФОЩЕ УМХЮБЙ ЛПЭХОУФЧБ, рЕФТ ФЭБФЕМШОП УПВМАДБМ РТБЧПУМБЧОЩЕ ПВТСДЩ. дБЦЕ ОЕТБУРПМПЦЕООЩК Л ОЕНХ ДЙРМПНБФ аУФ аМШ ЧЩОХЦДЕО ВЩМ РТЙЪОБФШ, ЮФП «ГБТШ ВМБЗПЮЕУФЙЧ», Б ДТХЗПК УЧЙДЕФЕМШ, ЖТБОГХЪ мЕ-жПТФ Ч 1721 ЗПДХ ПФНЕЮБМ, ЮФП «ГБТШ ЗПЧЕМ ВПМЕЕ ФЭБФЕМШОП, ЮЕН ПВЩЮОП, У нЕБ culpa (РПЛБСОЙЕН. — а. м.),ЛПМЕОПРТЕЛМПОЕОЙЕН Й НОПЗПЛТБФОЩН ГЕМПЧБОЙЕН ЪЕНМЙ».
Ч ОБТПДОЙЮЕУЛЙИ ЛТХЗБИ Й Ч ПЛТХЦЕОЙЙ б. й. зЕТГЕОБ УХЭЕУФЧПЧБМБ ФЕОДЕОГЙС ЧЙДЕФШ Ч УФБТППВТСДГБИ ЧЩТБЪЙФЕМЕК НОЕОЙК ЧУЕЗП ОБТПДБ Й ОБ ЬФПН ПУОПЧБОЙЙ ЛПОУФТХЙТПЧБФШ ПФОПЫЕОЙЕ ЛТЕУФШСОУФЧБ Л рЕФТХ. ч ДБМШОЕКЫЕН ЬФХ ФПЮЛХ ЪТЕОЙС ХУЧПЙМЙ ТХУУЛЙЕ УЙНЧПМЙУФЩ — д. у. нЕТЕЦЛПЧУЛЙК Й ДТ., ПФПЦДЕУФЧМСЧЫЙЕ УЕЛФБОФПЧ Й РТЕДУФБЧЙФЕМЕК ТБУЛПМБ УП ЧУЕН ОБТПДПН. чПРТПУ ЬФПФ ОХЦДБЕФУС Ч ДБМШОЕКЫЕН ВЕУРТЙУФТБУФОПН ЙУУМЕДПЧБОЙЙ. пФНЕФЙН МЙЫШ, ЮФП ФБЛЙЕ, УДЕМБЧЫЙЕУС ХЦЕ РТЙЧЩЮОЩНЙ ХФЧЕТЦДЕОЙС, ЛБЛ НОЕОЙЕ ЙЪЧЕУФОПЗП ЙУУМЕДПЧБФЕМС МХВЛБ д. тПЧЙОУЛПЗП, ЮФП МХВПЛ «лБЛ НЩЫЙ ЛПФБ ИПТПОЙМЙ» Й ТСД МЙУФПЧ ОБ ФЕНХ «уФБТЙЛ Й ЧЕДШНБ» СЧМСАФУС УБФЙТБНЙ ОБ рЕФТБ, ОБ РПЧЕТЛХ ПЛБЪЩЧБАФУС ОЙ ОБ ЮЕН ОЕ ПУОПЧБООЩНЙ.
ЧРПУМЕДУФЧЙЙ, ПУПВЕООП РТЙ оЙЛПМБЕ I, РПМПЦЕОЙЕ НЕОСМПУШ Ч УФПТПОХ ЧУЕ ВПМШЫЕЗП РТЕЧТБЭЕОЙС ДЧПТСОУФЧБ Ч ЪБНЛОХФХА ЛБУФХ. хТПЧЕОШ ЮЙОБ, РТЙ ЛПФПТПН ОЕДЧПТСОЙО РПМХЮБМ ДЧПТСОУФЧП, ЧУЕ ЧТЕНС РПЧЩЫБМУС.
РТЕДРПЮФЕОЙЕ, ДБЧБЕНПЕ ЧПЙОУЛПК УМХЦВЕ, ПФТБЪЙМПУШ Ч РПМОПН ЪБЗМБЧЙЙ ЪБЛПОБ: «фБВЕМШ П ТБОЗБИ ЧУЕИ ЮЙОПЧ, ЧПЙОУЛЙИ, УФБФУЛЙИ Й РТЙДЧПТОЩИ, ЛПФПТЩЕ Ч ЛПФПТПН ЛМБУУЕ ЮЙОЩ; Й ЛПФПТЩЕ Ч ПДОПН ЛМБУУЕ, ФЕ ЙНЕАФ РП УФБТЫЙОУФЧХ ЧТЕНЕОЙ ЧУФХРМЕОЙС Ч ЮЙО НЕЦДХ УПВПА, ПДОБЛПЦ ЧПЙОУЛЙЕ ЧЩЫЕ РТПФЮЙИ, ИПФС В Й УФБТЕЕ ЛФП Ч ФПН ЛМБУУЕ РПЦБМПЧБО ВЩМ». иБТБЛФЕТОП Й ДТХЗПЕ: ОБЪОБЮЙЧ ЧПЙОУЛЙЕ ЮЙОЩ I ЛМБУУБ (ЗЕОЕТБМ-ЖЕМШДНБТЫБМ Ч УХИПРХФОЩИ Й ЗЕОЕТБМ-БДНЙТБМ Ч НПТУЛЙИ ЧПКУЛБИ), рЕФТ ПУФБЧЙМ РХУФЩНЙ НЕУФБ I ЛМБУУБ Ч УФБФУЛПК Й РТЙДЧПТОПК УМХЦВЕ. мЙЫШ ХЛБЪБОЙЕ уЕОБФБ, ЮФП ЬФП РПУФБЧЙФ ТХУУЛЙИ ДЙРМПНБФПЧ РТЙ УОПЫЕОЙСИ У ЙОПУФТБООЩНЙ ДЧПТБНЙ Ч ОЕТБЧОПЕ РПМПЦЕОЙЕ, ХВЕДЙМП ЕЗП Ч ОЕПВИПДЙНПУФЙ I ЛМБУУБ Й ДМС УФБФУЛПК УМХЦВЩ (ЙН УФБМ ЛБОГМЕТ). рТЙДЧПТОБС ЦЕ УМХЦВБ ФБЛ Й ПУФБМБУШ ВЕЪ ЧЩУЫЕЗП ТБОЗБ.
ЙОФЕТЕУОП, ЮФП ДЧПТСОУФЧП, ВЩУФТП ТБЪПТСЧЫЕЕУС Ч 1830—1840-Е ЗПДЩ, ФПЦЕ ЧОЕУМП БЛФЙЧОЩК ЧЛМБД Ч ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ТХУУЛПК ЙОФЕММЙЗЕОГЙЙ. рТПЖЕУУЙПОБМШОПЕ ДПТЕЖПТНЕООПЕ ЮЙОПЧОЙЮЕУФЧП ПЛБЪБМПУШ Й ЪДЕУШ ЪОБЮЙФЕМШОП НЕОЕЕ БЛФЙЧОЩН.
ТЕНПОФ МПЫБДЕК — ФЕИОЙЮЕУЛЙК ФЕТНЙО Ч ЛБЧБМЕТЙЙ, ПЪОБЮБАЭЙК РПРПМОЕОЙЕ Й ПВОПЧМЕОЙЕ ЛПОУЛПЗП УПУФБЧБ. дМС ЪБЛХРЛЙ МПЫБДЕК ПЖЙГЕТ У ЛБЪЕООЩНЙ УХННБНЙ ЛПНБОДЙТПЧБМУС ОБ ПДОХ ЙЪ ВПМШЫЙИ ЕЦЕЗПДОЩИ ЛПОУЛЙИ СТНБТПЛ. рПУЛПМШЛХ МПЫБДЙ РПЛХРБМЙУШ Х РПНЕЭЙЛПЧ — МЙГ ЮБУФОЩИ, РТПЧЕТЛЙ УХННЩ ТЕБМШОП ЙУФТБЮЕООЩИ ДЕОЕЗ ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ОЕ ВЩМП. зБТБОФЙСНЙ ТЕБМШОПУФЙ УХННЩ ДЕОЕЦОЩИ ФТБФ ВЩМЙ, У ПДОПК УФПТПОЩ, ДПЧЕТЙЕ Л ЛПНБОДЙТПЧБООПНХ ПЖЙГЕТХ, Б У ДТХЗПК — ПРЩФОПУФШ РПМЛПЧПЗП ОБЮБМШУФЧБ, ТБЪВЙТБЧЫЕЗПУС Ч УФПЙНПУФЙ МПЫБДЕК.
ОБДП УЛБЪБФШ, ЮФП УМХЦВБ ВЕЪ ЦБМПЧБОШС ВЩМБ ДПЧПМШОП ЮБУФЩН СЧМЕОЙЕН, Б б. нЕОЫЙЛПЧ Ч 1726 ЗПДХ ЧППВЭЕ ПФНЕОЙМ ЦБМПЧБОШЕ НЕМЛЙН ЮЙОПЧОЙЛБН, ЗПЧПТС, ЮФП ПОЙ Й ФБЛ ВЕТХФ НОПЗП ЧЪСФПЛ.
Ч ВЩФПРЙУБОЙСИ XVIII УФПМЕФЙС ЙЪЧЕУФЕО УМХЮБК, ЛПЗДБ ОЕЛЙК ЗПУФШ УПТПЛ МЕФ ТЕЗХМСТОП РПСЧМСМУС ОБ ПВЕДБИ Х ПДОПЗП ЧЕМШНПЦЙ. пДОБЛП, ЛПЗДБ ЬФПФ ЮЕМПЧЕЛ ХНЕТ, ПЛБЪБМПУШ, ЮФП ОЙЛФП, ЧЛМАЮБС ИПЪСЙОБ, ОЕ ЪОБМ, ЛФП ПО ФБЛПК Й ЛБЛПЧП ЕЗП ЙНС.
10* чУЕ ЪБЛПОЩ ГЙФЙТХАФУС РП ЙЪДБОЙА: рПМОПЕ УПВТБОЙЕ ЪБЛПОПЧ тПУУЙКУЛПК йНРЕТЙЙ, РПЧЕМЕОЙЕН зПУХДБТС оЙЛПМБС рБЧМПЧЙЮБ УПУФБЧМЕООПЕ. (1649 —1825). ф. 1 —45. урВ., 1830.
12* уФБТЩК РТЙОГЙР, ПДОБЛП, ОЕ ВЩМ ДП ЛПОГБ ХОЙЮФПЦЕО. ьФП ПФТБЦБМПУШ Ч ФПН, ЮФП РЕТЙПДЙЮЕУЛЙ Ч УЙУФЕНХ ПТДЕОПЧ ЧТЩЧБМЙУШ ОЕ ХУМПЧОЩЕ, Б НБФЕТЙБМШОЩЕ ГЕООПУФЙ. фБЛ, ПТДЕОУЛБС ЪЧЕЪДБ У ВТЙММЙБОФБНЙ ЙНЕМБ ЪОБЮЕОЙЕ ПУПВПК УФЕРЕОЙ ПФМЙЮЙС
14* пЖЙГЙБМШОПЕ ОБЪЧБОЙЕ — ПТДЕО УЧ. йПБООБ йЕТХУБМЙНУЛПЗП. лБЛ ЙЪЧЕУФОП, рБЧЕМ I ЧЪСМ РПД РПЛТПЧЙФЕМШУФЧП ПУФТПЧ нБМШФХ Й Ч ДЕЛБВТЕ 1798 З. ПВЯСЧЙМ УЕВС ЧЕМЙЛЙН НБЗЙУФТПН нБМШФЙКУЛПЗП ПТДЕОБ. лПОЕЮОП, ЬФП ВЩМП УПЧЕТЫЕООП ОЕЧПЪНПЦОЩН: ЛБЧБМЕТЩ нБМШФЙКУЛПЗП ПТДЕОБ ДБЧБМЙ ПВЕФ ВЕЪВТБЮЙС, Б рБЧЕМ ВЩМ ХЦЕ ЧФПТЙЮОП ЦЕОБФ; ЛТПНЕ ФПЗП, нБМШФЙКУЛЙК ПТДЕО — ЛБФПМЙЮЕУЛЙК, Б ТХУУЛЙК ГБТШ, ТБЪХНЕЕФУС, ВЩМ РТБЧПУМБЧОЩН. оП рБЧЕМ I УЮЙФБМ, ЮФП ПО ЧУЕ НПЦЕФ (ДБЦЕ МЙФХТЗЙА ПФУМХЦЙМ ПДОБЦДЩ!); ЧУЕ, ЮФП НПЦЕФ вПЗ, РПД УЙМХ Й ТХУУЛПНХ ЙНРЕТБФПТХ.
17* уТ. РПЪДОЕКЫЕЕ ЙТПОЙЮЕУЛПЕ ЙУФПМЛПЧБОЙЕ УЕНБОФЙЛЙ УМПЧБ «УМХЦЙФШ» Ч ТЕЮЙ ДЧПТСОЙОБ Й ТБЪОПЮЙОГБ-РПРПЧЙЮБ: «бИ, РПЪЧПМШФЕ, ЧБЫБ ЖБНЙМЙС НОЕ ЪОБЛПНБ — тСЪБОПЧ. дБ, ФЕРЕТШ С РПНОА. нЩ У ЧБЫЙН ВБФАЫЛПК ЧНЕУФЕ УМХЦЙМЙ".. юФП ЦЕ ЧЩ У ОЙН, ЧУЕОПЭОХА ЙМЙ ПВЕДОА УМХЦЙМЙ?" — УРТПУЙМ тСЪБОПЧ.. фП ЕУФШ ЛБЛ?" — „с ОЕ ЪОБА, ЛБЛ. дПМЦОП ВЩФШ, УПВПТОЕ. б ФП ЛБЛ ЦЕ ЕЭЕ?" рПУТЕДОЙЛ У ОЕДПХНЕОЙЕН УНПФТЕМ ОБ тСЪБОПЧБ:. дБ ТБЪЧЕ ЧБЫ ВБФАЫЛБ ОЕ УМХЦЙМ Ч ЗТПДОЕОУЛЙИ ЗХУБТБИ?" — оЕФ; ПО ВПМШЫЕ Ч УЕМБИ РТЕУЧЙФЕТПН УМХЦЙМ"» (уМЕРГПЧ ч. б. уПЮ. Ч 2-И Ф. н., 1957, Ф. 2, У. 58).
18* йЪЧЕУФОБС ОБЛМПООПУФШ ХРПФТЕВМСФШ ЧЩУПЛЙЕ УМПЧБ Ч УОЙЦЕООП-ЙТПОЙЮЕУЛЙИ ЪОБЮЕОЙСИ ЛПУОХМБУШ РПЪЦЕ Й ЧЩТБЦЕОЙС «УМХЦЙФШ ЙЪ ЮЕУФЙ». пОП ОБЮБМП ПВПЪОБЮБФШ ФТБЛФЙТОХА РТЙУМХЗХ, ОЕ РПМХЮБАЭХА ПФ ИПЪСЙОБ ЦБМПЧБОШС Й УМХЦБЭХА ЪБ ЮБЕЧЩЕ. уТ. ЧЩТБЦЕОЙЕ Ч «пРБУОПН УПУЕДЕ» ч. м. рХЫЛЙОБ, РТЙОБДМЕЦБЭЕЕ ЛХИБТЛЕ Ч РХВМЙЮОПН ДПНЕ: «йЪ ЮЕУФЙ МЙЫШ ПДОПК С Ч ДПНЕ ЪДЕУШ УМХЦХ» (рПЬФЩ 1790—1810-И ЗПДПЧ. м., 1971, У. 670).
ФБН ЦЕ, Ф. 5, У. 16, УП УУЩМЛПК ОБ: тБВЙОПЧЙЮ н. д. уПГЙБМШОПЕ РТПЙУИПЦДЕОЙЕ Й ЙНХЭЕУФЧЕООПЕ РПМПЦЕОЙЕ ПЖЙГЕТПЧ ТЕЗХМСТОПК ТХУУЛПК БТНЙЙ Ч ЛПОГЕ уЕЧЕТОПК ЧПКОЩ. — ч ЛО.: тПУУЙС Ч РЕТЙПД ТЕЖПТН рЕФТБ I. н., 1973, У 171; вХЗБОПЧ ч. й., рТЕПВТБЦЕОУЛЙК б. б., фЙИПОПЧ а. б. ьЧПМАГЙС ЖЕПДБМЙЪНБ Ч тПУУЙЙ. уПГЙБМШОП-ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙЕ РТПВМЕНЩ. н., 1980, У. 241.
19* фПМШЛП Ч РТЙДЧПТОПК УМХЦВЕ ЦЕОЭЙОЩ УБНЙ ЙНЕМЙ ЮЙОЩ. ч фБВЕМЙ П ТБОЗБИ ОБИПДЙН: «дБНЩ Й ДЕЧЙГЩ РТЙ ДЧПТЕ, ДЕКУФЧЙФЕМШОП Ч ЮЙОБИ ПВТЕФБАЭЙЕУС, ЙНЕАФ УМЕДХАЭЙЕ ТБОЗЙ... » (рБНСФОЙЛЙ ТХУУЛПЗП РТБЧБ. чЩР. 8, У. 186) — ДБМЕЕ УМЕДПЧБМП ЙИ РЕТЕЮЙУМЕОЙЕ.
УН.: уЕНЕОПЧБ м. о. пЮЕТЛЙ ЙУФПТЙЙ ВЩФБ Й ЛХМШФХТОПК ЦЙЪОЙ тПУУЙЙ: рЕТЧБС РПМПЧЙОБ XVIII ЧЕЛБ м., 1982, У. 114—115; рЕТЕРЙУЛБ ЛОСЗЙОЙ е. р. хТХУПЧПК УП УЧПЙНЙ ДЕФШНЙ. — ч ЛО.: уФБТЙОБ Й ОПЧЙЪОБ. лО. 20. н., 1916; юБУФОБС РЕТЕРЙУЛБ ЛОСЪС рЕФТБ йЧБОПЧЙЮБ иПЧБОУЛПЗП, ЕЗП УЕНШЙ Й ТПДУФЧЕООЙЛПЧ. — ч ЛО. фБН ЦЕ, ЛО. 10; зТБНПФЛЙ XVII — ОБЮБМБ XVIII ЧЕЛБ. н., 1969.
20* уТЕДОЕЧЕЛПЧБС ЛОЙЗБ ВЩМБ ТХЛПРЙУОПК. лОЙЗБ XIX ЧЕЛБ — ЛБЛ РТБЧЙМП, РЕЮБФОПК (ЕУМЙ ОЕ ЗПЧПТЙФШ П ЪБРТЕЭЕООПК МЙФЕТБФХТЕ, П ЛХМШФХТЕ ГЕТЛПЧОПК Й ОЕ ХЮЙФЩЧБФШ ОЕЛПФПТЩИ ДТХЗЙИ УРЕГЙБМШОЩИ УМХЮБЕЧ). XVIII ЧЕЛ ЪБОЙНБЕФ ПУПВПЕ РПМПЦЕОЙЕ: ТХЛПРЙУОЩЕ Й РЕЮБФОЩЕ ЛОЙЗЙ УХЭЕУФЧХАФ ПДОПЧТЕНЕООП, ЙОПЗДБ — ЛБЛ УПАЪОЙЛЙ, РПТПК — ЛБЛ УПРЕТОЙЛЙ.
21* уН. Ч «рХФЕЫЕУФЧЙЙ ЙЪ рЕФЕТВХТЗБ Ч нПУЛЧХ» б. о. тБДЙЭЕЧБ, Ч ЗМБЧЕ «оПЧЗПТПД», РПТФТЕФ ЦЕОЩ ЛХРГБ: «рТБУЛПЧШС дЕОЙУПЧОБ, ЕЗП ОПЧПВТБЮОБС УХРТХЗБ, ВЕМБ Й ТХНСОБ. ъХВЩ ЛБЛ ХЗПМШ. вТПЧЙ Ч ОЙФЛХ, ЮЕТОЕЕ УБЦЙ».
тПНБО ЛМБУУЙЮЕУЛЙК, УФБТЙООЩК,
пФНЕООП ДМЙООЩК, ДМЙООЩК, ДМЙООЩК,
оТБЧПХЮЙФЕМШОЩК Й ЮЙООЩК,
вЕЪ ТПНБОФЙЮЕУЛЙИ ЪБФЕК.
зЕТПЙОС РПЬНЩ — оБФБМЙС рБЧМПЧОБ ЮЙФБМБ ФБЛЙЕ ТПНБОЩ ЕЭЕ Ч ОБЮБМЕ XIX ЧЕЛБ: Ч РТПЧЙОГЙЙ ПОЙ ЪБДЕТЦБМЙУШ, ОП Ч УФПМЙГБИ ЙИ ЧЩФЕУОЙМ ТПНБОФЙЪН, РЕТЕНЕОЙЧЫЙК ЮЙФБФЕМШУЛЙЕ ЧЛХУЩ. уТ. Ч «еЧЗЕОЙЙ пОЕЗЙОЕ»:
б ОЩОЮЕ ЧУЕ ХНЩ Ч ФХНБОЕ,
нПТБМШ ОБ ОБУ ОБЧПДЙФ УПО,
рПТПЛ МАВЕЪЕО — Й Ч ТПНБОЕ,
й ФБН ХЦ ФПТЦЕУФЧХЕФ ПО. (3, XII))
23* рПЧЕУФШ H. M. лБТБНЪЙОБ «тЩГБТШ ОБЫЕЗП ЧТЕНЕОЙ», ОБ ЛПФПТПК НЩ Ч ДБООПН УМХЮБЕ ПУОПЧЩЧБЕНУС, — ИХДПЦЕУФЧЕООПЕ РТПЙЪЧЕДЕОЙЕ, Б ОЕ ДПЛХНЕОФ. пДОБЛП НПЦОП РПМБЗБФШ, ЮФП ЙНЕООП Ч ЬФЙИ ЧПРТПУБИ лБТБНЪЙО ВМЙЪПЛ Л ВЙПЗТБЖЙЮЕУЛПК ТЕБМШОПУФЙ.
24* жТБОГХЪУЛПЕ РЙУШНП ЗПУХДБТА ЙМЙ ЧЩУЫЙН УБОПЧОЙЛБН, ОБРЙУБООПЕ НХЦЮЙОПК, ВЩМП ВЩ ЧПУРТЙОСФП ЛБЛ ДЕТЪПУФШ: РПДДБООЩК ПВСЪБО ВЩМ РЙУБФШ РП-ТХУУЛЙ Й ФПЮОП УМЕДХС ХУФБОПЧМЕООПК ЖПТНЕ. дБНБ ВЩМБ ЙЪВБЧМЕОБ ПФ ЬФПЗП ТЙФХБМБ. жТБОГХЪУЛЙК СЪЩЛ УПЪДБЧБМ НЕЦДХ ОЕА Й ЗПУХДБТЕН ПФОПЫЕОЙС, РПДПВОЩЕ ТЙФХБМШОЩН УЧСЪСН ТЩГБТС Й ДБНЩ. жТБОГХЪУЛЙК ЛПТПМШ мАДПЧЙЛ XIV, РПЧЕДЕОЙЕ ЛПФПТПЗП ЧУЕ ЕЭЕ ВЩМП ЙДЕБМПН ДМС ЧУЕИ ЛПТПМЕК еЧТПРЩ, ДЕНПОУФТБФЙЧОП РП-ТЩГБТУЛЙ ПВТБЭБМУС У ЦЕОЭЙОБНЙ МАВПЗП ЧПЪТБУФБ Й УПГЙБМШОПЗП РПМПЦЕОЙС.
йОФЕТЕУОП ПФНЕФЙФШ, ЮФП АТЙДЙЮЕУЛЙ УФЕРЕОШ УПГЙБМШОПК ЪБЭЙЭЕООПУФЙ, ЛПФПТПК ТБУРПМБЗБМБ ТХУУЛБС ЦЕОЭЙОБ-ДЧПТСОЛБ Ч ОЙЛПМБЕЧУЛХА ЬРПИХ, НПЦЕФ ВЩФШ УПРПУФБЧМЕОБ У ЪБЭЙЭЕООПУФША РПУЕФЙЧЫЕЗП тПУУЙА ЙОПУФТБОГБ. уПЧРБДЕОЙЕ ЬФП ОЕ УФПМШ ХЦ УМХЮБКОП: Ч ЮЙОПЧОП-ВАТПЛТБФЙЮЕУЛПН НЙТЕ ТБОЗБ Й НХОДЙТБ ЧУСЛЙК, ЛФП ФБЛ ЙМЙ ЙОБЮЕ ЧЩИПДЙФ ЪБ ЕЗП РТЕДЕМЩ, — «ЙОПУФТБОЕГ».
25* рТБЧДБ, Ч ПФМЙЮЙЕ ПФ уЕО-рТЕ ЙЪ «оПЧПК ьМПЙЪЩ», цХЛПЧУЛЙК — ДЧПТСОЙО. пДОБЛП ДЧПТСОУФЧП ЕЗП УПНОЙФЕМШОП: ЧУЕ ПЛТХЦБАЭЙЕ ЪОБАФ, ЮФП ПО ОЕЪБЛПООЩК УЩО У ЖЙЛФЙЧОП ДПВЩФЩН ДЧПТСОУФЧПН (УН.: рПТФОПЧБ й. й., жПНЙО о. л. дЕМП П ДЧПТСОУФЧЕ цХЛПЧУЛПЗП. — ч ЛО.: цХЛПЧУЛЙК Й ТХУУЛБС ЛХМШФХТБ. м., 1987, У. 346—350).
26* фБЛ ОБЪЩЧБМЙ ПВЩЮОП ЛОЙЗХ «рМХФБТИБ иЕТПОЕКУЛПЗП п ДЕФПЧПДУФЧЕ, ЙМЙ ЧПУРЙФБОЙЙ ДЕФЕК ОБУФБЧМЕОЙЕ. рЕТЕЧЕДЕООПЕ У ЕММЙОП-ЗТЕЮЕУЛПЗП СЪЩЛБ у[ФЕРБОПН] р[ЙУБТЕЧЩН]». урВ., 1771.
28* чПЪНПЦОП, ЮФП ЧОЙНБОЙЕ тБДЙЭЕЧБ Л ЬФПНХ ЬРЙЪПДХ ЧЩЪЧБОП УПВЩФЙЕН, РТСНП РТЕДЫЕУФЧПЧБЧЫЙН ОБРЙУБОЙА ФЕЛУФБ. рПУМЕДОЙЕ СЛПВЙОГЩ — цЙМШВЕТ тПНН Й ЕЗП ЕДЙОПНЩЫМЕООЙЛЙ, ПВПДТСС ДТХЗ ДТХЗБ, ЙЪВЕЦБМЙ ЛБЪОЙ, ФБЛ ЛБЛ ЪБЛПМПМЙУШ ПДОЙН ЛЙОЦБМПН, ЛПФПТЩК ПОЙ РЕТЕДБЧБМЙ ДТХЗ ДТХЗХ ЙЪ ТХЛ Ч ТХЛЙ (ДБФЙТПЧЛХ РПЬНЩ 1795—1796 ЗЗ. УН.: тБДЙЭЕЧ б. о. уФЙИПФЧПТЕОЙС. м., 1975, У. 244—245).
29* юФПВЩ ПГЕОЙФШ ЬФПФ ЫБЗ ДПЧПМШОП ПУФПТПЦОПЗП рМЕФОЕЧБ, УМЕДХЕФ ХЮЕУФШ, ЮФП ОБЮЙОБС У 1830-ЗП ЗПДБ ЧПЛТХЗ ПГЕОЛЙ ФЧПТЮЕУФЧБ рХЫЛЙОБ ЫМБ ПУФТБС РПМЕНЙЛБ Й БЧФПТЙФЕФ ЕЗП ВЩМ РПЛПМЕВМЕО ДБЦЕ Ч УПЪОБОЙЙ ОБЙВПМЕЕ ВМЙЪЛЙИ Л ОЕНХ РПЬФПЧ (ОБРТЙНЕТ, е. вБТБФЩОУЛПЗП). ч ПЖЙГЙПЪОЩИ ЦЕ ЛТХЗБИ ДЙУЛТЕДЙФЙТПЧБФШ РПЬЪЙА рХЫЛЙОБ УДЕМБМПУШ Ч ЬФЙ ЗПДЩ УЧПЕЗП ТПДБ ПВЩЮБЕН.
30* уХНБТПЛПЧ б. р. йЪВТ. РТПЙЪЧЕДЕОЙС. м., 1957, У. 307. пВТБЭЕОЙЕ РПЬФБ Л ЧПУРЙФБООЙГБН уНПМШОПЗП ЙОУФЙФХФБ ОБРПНЙОБЕФ, Й ЧЙДЙНП ОЕ УМХЮБКОП, ЙЪЧЕУФОЩЕ УФТПЛЙ н. мПНПОПУПЧБ: «п ЧЩ, ЛПФПТЩИ ПЦЙДБЕФ // пФЕЮЕУФЧП ЙЪ ОЕДТ УЧПЙИ... » пДОБЛП мПНПОПУПЧ ПВТБЭБЕФУС Л ТХУУЛПНХ АОПЫЕУФЧХ ВЕЪ ЛБЛПЗП-МЙВП ХЛБЪБОЙС ОБ УПУМПЧЙЕ, ЧЕУШ ЦЕ УНЩУМ РПУМБОЙС уХНБТПЛПЧБ УПУФПЙФ Ч УПЪДБОЙЙ РТПЗТБННЩ ДМС ЧПУРЙФБОЙС ТХУУЛПК ДЧПТСОУЛПК ДЕЧХЫЛЙ.
33* рЕТЧПЕ ЧПУРЙФБФЕМШОПЕ ЪБЧЕДЕОЙЕ ДМС ДЕЧХЫЕЛ ЧПЪОЙЛМП Ч дЕТРФЕ, ЪБДПМЗП ДП уНПМШОПЗП ЙОУФЙФХФБ, Ч 50-Е ЗПДЩ XVIII ЧЕЛБ. рТЕРПДБЧБОЙЕ ФБН ЧЕМПУШ ОБ ОЕНЕГЛПН СЪЩЛЕ.
34* рТЙНЕЮ. рХЫЛЙОБ: «оЕФПЮОПУФШ. — оБ ВБМБИ ЛБЧБМЕТЗБТД<УЛЙЕ> ПЖЙГЕТЩ СЧМСАФУС ФБЛ ЦЕ, ЛБЛ Й РТПЮЙЕ ЗПУФЙ, Ч ЧЙГ НХОДЙТЕ, Ч ВБЫНБЛБИ. ъБНЕЮБОЙЕ ПУОПЧБФЕМШОПЕ, ОП Ч ЫРПТБИ ЕУФШ ОЕЮФП РПЬФЙЮЕУЛПЕ. уУЩМБАУШ ОБ НОЕОЙЕ б. й. в. » (VI, 528).
[рЕФТПЧУЛЙК м.] рТБЧЙМБ ДМС ВМБЗПТПДОЩИ ПВЭЕУФЧЕООЩИ ФБОГЕЧ, ЙЪДБООЩЕ ХЮЙФЕМЕН ФБОГЕЧБОШС РТЙ уМПВПДУЛП-ХЛТБЙОУЛПК ЗЙНОБЪЙЙ мАДПЧЙЛПН рЕФТПЧУЛЙН. иБТШЛПЧ, 1825, У. 13—14.
35* н. б. оБТЩЫЛЙОБ — МАВПЧОЙГБ, Б ОЕ ЦЕОБ ЙНРЕТБФПТБ, РПЬФПНХ ОЕ НПЦЕФ ПФЛТЩЧБФШ ВБМ Ч РЕТЧПК РБТЕ, Х рХЫЛЙОБ ЦЕ «мБММБ-тХЛ» ЙДЕФ Ч РЕТЧПК РБТЕ У бМЕЛУБОДТПН I.
ЪБРЙУЛЙ с. н. оЕЧЕТПЧБ. — тХУУЛБС УФБТЙОБ, 1883, Ф. XI (ГЙФ. РП: рПНЕЭЙЮШС тПУУЙС, У. 148). рБТБДПЛУБМШОПЕ УПЧРБДЕОЙЕ ОБИПДЙН Ч УФЙИПФЧПТЕОЙЙ чУЕЧПМПДБ тПЦДЕУФЧЕОУЛПЗП, УПЪДБАЭЕЗП ПВТБЪ вЕУФХЦЕЧБ-нБТМЙОУЛПЗП, ВЕЦБЧЫЕЗП Ч ЗПТЩ Й ДЕЛМБНЙТХАЭЕЗП УМЕДХАЭЙК ФЕЛУФ:
мЙЫШ ОБ УЕТДГЕ ФПМШЛП ОБМСЦЕФ ФПУЛБ
й ОЕВП РПЛБЦЕФУС ХЪЛЙН,
чУА ОПЮШ ЕК Ч ЗБТЕНЕ ЮЙФБА «гЩЗБО»,
чУЕ РМБЮХ, РПА РП-ЖТБОГХЪУЛЙ.
чППВТБЦЕОЙЕ РПЬФБ УФТБООП РПЧФПТСМП ЖБОФБЪЙЙ РПНЕЭЙЛБ ДБЧОЙИ РПТ.
39* пФПЦДЕУФЧМЕОЙЕ УМПЧ «ИБН» Й «ТБВ» РПМХЮЙМП ПДОП МАВПРЩФОПЕ РТПДПМЦЕОЙЕ. дЕЛБВТЙУФ оЙЛПМБК фХТЗЕОЕЧ, ЛПФПТЩК, РП УМПЧБН рХЫЛЙОБ, «ГЕРЙ ТБВУФЧБ ОЕОБЧЙДЕМ», ЙУРПМШЪПЧБМ УМПЧП «ИБН» Ч УРЕГЙЖЙЮЕУЛПН ЪОБЮЕОЙЙ. пО УЮЙФБМ, ЮФП ИХДЫЙНЙ ТБВБНЙ СЧМСАФУС ЪБЭЙФОЙЛЙ ТБВУФЧБ — РТПРПЧЕДОЙЛЙ ЛТЕРПУФОПЗП РТБЧБ. дМС ОЙИ ПО Й ЙУРПМШЪПЧБМ Ч УЧПЙИ ДОЕЧОЙЛБИ Й РЙУШНБИ УМПЧП «ИБН», РТЕЧТБФЙЧ ЕЗП Ч РПМЙФЙЮЕУЛЙК ФЕТНЙО.
УН. ПВ ЬФПН Ч ЛО.: лБТРПЧЙЮ е. р. ъБНЕЮБФЕМШОЩЕ ВПЗБФУФЧБ ЮБУФОЩИ МЙГ Ч тПУУЙЙ. урВ., 1874, У. 259—263; Б ФБЛЦЕ: мПФНБО а. н. тПНБО б. у. рХЫЛЙОБ «еЧЗЕОЙК пОЕЗЙО». лПННЕОФБТЙК. м., 1980, У. 36—42.
40* уТ. Ч ФПН ЦЕ ЙУФПЮОЙЛЕ ПРЙУБОЙЕ ПВТСДБ УЧБФПЧУФЧБ: «уФПМ ВЩМ ОБЛТЩФ ЮЕМПЧЕЛ ОБ УПТПЛ. оБ УФПМЕ УФПСМЙ ЮЕФЩТЕ ПЛПТПЛБ Й ВЕМЩК ВПМШЫПК, ЛТХЗМЩК, УМБДЛЙК РЙТПЗ У ТБЪОЩНЙ ХЛТБЫЕОЙСНЙ Й ЖЙЗХТБНЙ».
41* рПДЪБЗПМПЧПЛ «пФТЩЧПЛ ЙЪ РЙУШНБ АЦОПЗП ЦЙФЕМС» — ОЕ ФПМШЛП ОБНЕЛ ОБ ВЙПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ ПВУФПСФЕМШУФЧБ БЧФПТБ, ОП Й ДЕНПОУФТБФЙЧОПЕ РТПФЙЧПРПУФБЧМЕОЙЕ УЕВС «РЕФЕТВХТЗУЛПК» ФПЮЛЕ ЪТЕОЙС.
42* фП ЕУФШ «ЛБЮЕМЙ Ч ЧЙДЕ ЧТБЭБАЭЕЗПУС ЧБМБ У РТПДЕФЩНЙ УЛЧПЪШ ОЕЗП ВТХУШСНЙ, ОБ ЛПФПТЩИ РПДЧЕЫЕОЩ СЭЙЛЙ У УЙДЕОШСНЙ» (уМПЧБТШ СЪЩЛБ рХЫЛЙОБ. ч 4-И Ф. н., 1956—1961, Ф. 2, У. 309). лБЛ МАВЙНПЕ ОБТПДОПЕ ТБЪЧМЕЮЕОЙЕ, ЬФЙ ЛБЮЕМЙ ПРЙУБОЩ ВЩМЙ РХФЕЫЕУФЧЕООЙЛПН пМЕБТЙЕН (уН.: пМЕБТЙК бДБН. пРЙУБОЙЕ РХФЕЫЕУФЧЙС Ч нПУЛПЧЙА... урВ., 1806, У. 218—219), ЛПФПТЩК РТЙЧЕМ Й ЙИ ТЙУХОПЛ.
44* ъБТС ЙМЙ ЪПТС — ЧЙД ФТБЧЩ, УЮЙФБЧЫЕКУС Ч ОБТПДОПК НЕДЙГЙОЕ ГЕМЕВОПК «чП ЧТЕНС ФТПЙГЛПЗП НПМЕВОБ ДЕЧХЫЛЙ, УФПСЭЙЕ УМЕЧБ ПФ БМФБТС, ДПМЦОЩ ХТПОЙФШ ОЕУЛПМШЛП УМЕЪЙОПЛ ОБ РХЮПЛ НЕМЛЙИ ВЕТЕЪПЧЩИ ЧЕФПЛ (Ч ДТХЗЙИ ТБКПОБИ тПУУЙЙ РМБЛБМЙ ОБ РХЮПЛ ЪБТЙ ЙМЙ ОБ ДТХЗЙЕ ГЧЕФЩ. — а. м.). ьФПФ РХЮПЛ ФЭБФЕМШОП УВЕТЕЗБЕФУС РПУМЕ Й УЮЙФБЕФУС ЪБМПЗПН ФПЗП, ЮФП Ч ЬФП МЕФП ОЕ ВХДЕФ ЪБУХИЙ» (ъЕТОПЧБ б. в. нБФЕТЙБМЩ РП УЕМШУЛПИПЪСКУФЧЕООПК НБЗЙЙ Ч дНЙФТПЧУЛПН ЛТБЕ. — уПЧЕФУЛБС ЬФОПЗТБЖЙС, 1932, 3, У. 30).
45* п ЕДЙОПН УЧБДЕВОПН ПВТСДЕ Ч ХУМПЧЙСИ ЛТЕРПУФОПЗП ВЩФБ ЗПЧПТЙФШ ОЕМШЪС. лТЕРПУФОПЕ РТЙОХЦДЕОЙЕ Й ОЙЭЕФБ УРПУПВУФЧПЧБМЙ ТБЪТХЫЕОЙА ПВТСДПЧПК УФТХЛФХТЩ. фБЛ, Ч «йУФПТЙЙ УЕМБ зПТАИЙОБ» ОЕЪБДБЮМЙЧЩК БЧФПТ зПТАИЙО РПМБЗБЕФ, ЮФП ПРЙУЩЧБЕФ РПИПТПООЩК ПВТСД, ЛПЗДБ УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ, ЮФП Ч ЕЗП ДЕТЕЧОЕ РПЛПКОЙЛПЧ ЪБТЩЧБМЙ Ч ЪЕНМА (ЙОПЗДБ ПЫЙВПЮОП) УТБЪХ РПУМЕ ЛПОЮЙОЩ, «ДБВЩ НЕТФЧЩК Ч ЙЪВЕ МЙЫОЕЗП НЕУФБ ОЕ ЪБОЙНБМ». нЩ ВЕТЕН РТЙНЕТ ЙЪ ЦЙЪОЙ ПЮЕОШ ВПЗБФЩИ ЛТЕРПУФОЩИ ЛТЕУФШСО — РТБУПМПЧ Й ФПТЗПЧГЕЧ, ФБЛ ЛБЛ ЪДЕУШ ПВТСД УПИТБОЙМУС Ч ОЕТБЪТХЫЕООПН ЧЙДЕ.
46* йЪ РТЙНЕЮБОЙК Л СРПОУЛПНХ ФЕЛУФХ ЧЙДОП, ЮФП ТХУУЛПЕ УМПЧП «ЧЕОГЩ» ОЕ ПЮЕОШ ФПЮОП РЕТЕДБЕФ УПДЕТЦБОЙЕ. уМПЧП Ч ПТЙЗЙОБМЕ ПЪОБЮБЕФ «ДЙБДЕНХ ОБ УФБФХЕ ВХДДЩ» (У. 360). иБТБЛФЕТОП, ЮФП ЙОЖПТНБФПТ ПФПЦДЕУФЧМСЕФ ОПЧПВТБЮОЩИ ОЕ У ЪЕНОЩНЙ ЧМБУФЙФЕМСНЙ, Б У ВПЗБНЙ.
49* оБРПНОЙН ХЦЕ ПФНЕЮБЧЫХАУС ОБНЙ МАВПРЩФОХА ДЕФБМШ. тЕЮШ ЙДЕФ ПВ ЬРПИЕ еМЙЪБЧЕФЩ рЕФТПЧОЩ. оП ЛПЗДБ эЕТВБФПЧ ЗПЧПТЙФ П ОЕК ЛБЛ П ЮЕМПЧЕЛЕ, ПО ХРПФТЕВМСЕФ ЦЕОУЛХА ЖПТНХ: «ЗПУХДБТЩОС», ЛПЗДБ ЦЕ П ЕЕ ЗПУХДБТУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФЙ — НХЦУЛХА: «ЗПУХДБТШ».
51* ъДЕУШ ТЕЮШ ЙДЕФ ПВ БОЗМЙКУЛПК НХЦУЛПК НПДЕ: ЖТБОГХЪУЛЙЕ ЦЕОУЛЙЕ Й НХЦУЛЙЕ НПДЩ УФТПЙМЙУШ ЛБЛ ЧЪБЙНОП УППФЧЕФУФЧЕООЩЕ — Ч бОЗМЙЙ ЛБЦДБС ЙЪ ОЙИ ТБЪЧЙЧБМБУШ РП УПВУФЧЕООЩН ЪБЛПОБН.
65* «пУФТЙЦЕО РП РПУМЕДОЕК НПДЕ» Й «ЛБЛ ДЕОДЙ МПОДПОУЛЙК ПДЕФ» ФБЛЦЕ пОЕЗЙО. ьФПНХ РТПФЙЧПРПУФБЧМЕОЩ «ЛХДТЙ ЮЕТОЩЕ ДП РМЕЮ» мЕОУЛПЗП. «лТЙЛХО, НСФЕЦОЙЛ Й РПЬФ», ЛБЛ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС мЕОУЛЙК Ч ЮЕТОПЧПН ЧБТЙБОФЕ, ПО, ЛБЛ Й ДТХЗЙЕ ОЕНЕГЛЙЕ УФХДЕОФЩ, ОПУЙМ ДМЙООЩЕ ЧПМПУЩ Ч ЪОБЛ МЙВЕТБМЙЪНБ, ЙЪ РПДТБЦБОЙС ЛБТВПОБТЙСН.
ЧРЕТЧЩЕ УПРПУФБЧМЕОЙЕ УАЦЕФПЧ ЬФЙИ РТПЙЪЧЕДЕОЙК УН.: ыФЕКО у. рХЫЛЙО Й зПЖНБО. уТБЧОЙФЕМШОПЕ ЙУФПТЙЛП-МЙФЕТБФХТОПЕ ЙУУМЕДПЧБОЙЕ. дЕТРФ, 1927, У. 275.
66* оЕУНПФТС ОБ ФП, ЮФП ТБЪЧПД Й ОПЧЩК ВТБЛ ВЩМЙ ЪБЛПОПДБФЕМШОП ПЖПТНМЕОЩ, ПВЭЕУФЧП ПФЛБЪЩЧБМПУШ РТЙЪОБФШ УЛБОДБМШОЩК РТПЙЗТЩЫ ЦЕОЩ, Й ВЕДОБС ЗТБЖЙОС тБЪХНПЧУЛБС ВЩМБ РПДЧЕТЗОХФБ ПУФТБЛЙЪНХ. чЩИПД ЙЪ РПМПЦЕОЙС У РТЙУХЭЙН ЕНХ ДЦЕОФМШНЕОУФЧПН ОБЫЕМ бМЕЛУБОДТ I, РТЙЗМБУЙЧ ВЩЧЫХА ЛОСЗЙОА ОБ ФБОЕГ Й ОБЪЧБЧ ЕЕ РТЙ ЬФПН «ЗТБЖЙОЕК». пВЭЕУФЧЕООЩК УФБФХУ, ФБЛЙН ПВТБЪПН, ВЩМ ЧПУУФБОПЧМЕО.
УН.: мЕЛПНГЕЧБ н. й., хУРЕОУЛЙК в. б. пРЙУБОЙЕ ПДОПК УЙУФЕНЩ У РТПУФЩН УЙОФБЛУЙУПН; еЗПТПЧ в. ж. рТПУФЕКЫЙЕ УЕНЙПФЙЮЕУЛЙЕ УЙУФЕНЩ Й ФЙРПМПЗЙС УАЦЕФПЧ. — фТХДЩ РП ЪОБЛПЧЩН УЙУФЕНБН. чЩР. р. фБТФХ, 1965.
РПЧЕУФЙ, ЙЪДБООЩЕ бМЕЛУБОДТПН рХЫЛЙОЩН. урВ., 1834, У. 187. ч БЛБДЕНЙЮЕУЛПН ЙЪДБОЙЙ рХЫЛЙОБ, ОЕУНПФТС ОБ ХЛБЪБОЙЕ, ЮФП ФЕЛУФ РЕЮБФБЕФУС РП ЙЪДБОЙА «рПЧЕУФЕК» 1834 ЗПДБ, Ч ЮБУФЙ ФЙТБЦБ ЬРЙЗТБЖ ПРХЭЕО, ИПФС ЬФП ПВУФПСФЕМШУФЧП ОЙЗДЕ Ч ЙЪДБОЙЙ ОЕ ПЗПЧПТЕОП.
67* фБЛ, р. б. чСЪЕНУЛЙК РЙЫЕФ П «НЙТОПК, ФБЛ ОБЪЩЧБЕНПК ЛПННЕТЮЕУЛПК ЙЗТЕ, П ЛБТФПЮОПН ЧТЕНСРТПЧПЦДЕОЙЙ, УЧПКУФЧЕООПН Х ОБУ ЧУЕН ЧПЪТБУФБН, ЧУЕН ЪЧБОЙСН Й ПВПЙН РПМБН. пДОБ ТХУУЛБС ВБТЩОС ЗПЧПТЙМБ Ч чЕОЕГЙЙ: „лПОЕЮОП, ЛМЙНБФ ЪДЕУШ ИПТПЫ; ОП ЦБМШ, ЮФП ОЕ У ЛЕН УТБЪЙФШУС Ч РТЕЖЕТБОУЙЛ". дТХЗПК ОБЫ УППФЕЮЕУФЧЕООЙЛ, ЛПФПТЩК РТПЧЕМ ЪЙНХ Ч рБТЙЦЕ, ПФЧЕЮБМ ОБ ЧПРТПУ, ЛБЛ ДПЧПМЕО ПО рБТЙЦЕН: „пЮЕОШ ДПЧПМЕО, Х ОБУ ЛБЦДЩК ЧЕЮЕТ ВЩМБ УЧПС РБТФЙС"» (чСЪЕНУЛЙК р. уФБТБС ЪБРЙУОБС ЛОЙЦЛБ. м., 1929, У. 85—86).
УФТБИПЧ о. рЕТЕРЙУЛБ нПДЩ, УПДЕТЦБЭБС РЙУШНБ ВЕЪТХЛЙИ нПД, ТБЪНЩЫМЕОЙС ОЕПДХЫЕЧМЕООЩИ ОБТСДПЧ, ТБЪЗПЧПТЩ ВЕУУМПЧЕУОЩИ ЮЕРГПЧ, ЮХЧУФЧПЧБОЙС НЕВЕМЕК, ЛБТЕФ, ЪБРЙУОЩИ ЛОЙЦЕЛ, РХЗПЧЙГ Й УФБТПЪБЧЕФОЩИ НБОЕЛ, ЛХОФБЫЕК, ЫМБЖПТПЧ, ФЕМПЗТЕК Й РТ. оТБЧУФЧЕООПЕ Й ЛТЙФЙЮЕУЛПЕ УПЮЙОЕОЙЕ, Ч ЛПЕН У ЙУФЙООПК УФПТПОЩ ПФЛТЩФЩ ОТБЧЩ, ПВТБЪ ЦЙЪОЙ Й ТБЪОЩС УНЕЫОЩС Й ЧБЦОЩС УГЕОЩ НПДОПЗП ЧЕЛБ. н., 1791, У. 31—32.
69* уН. Х оПЧЙЛПЧБ: «рПДТСД МАВПЧОЙЛПЧ Л РТЕУФБТЕМПК ЛПЛЕФЛЕ... НОПЗЙН ОБЫЙН ЗПУРПДЮЙЛБН ЧУЛТХЦЙМ ЗПМПЧЩ... ИПФСФ УЛБЛБФШ ОБ РПЮФПЧЩИ МПЫБДСИ Ч рЕФЕТВХТЗ, ЮФПВЩ ФБЛПЗП РПМЕЪОПЗП ДМС ОЙИ ОЕ РТПРХУФЙФШ УМХЮБС» (уБФЙТЙЮЕУЛЙЕ ЦХТОБМЩ о. й. оПЧЙЛПЧБ. н.; м., 1951, У. 105. р. о. вЕТЛПЧ Ч ЛПННЕОФБТЙЙ Л ЬФПНХ НЕУФХ РПМБЗБЕФ, ЮФП ТЕЮШ ЙДЕФ П ЖБЧПТЙФБИ ЙНРЕТБФТЙГЩ). зОПН ъПТ Ч «рПЮФЕ дХИПЧ» лТЩМПЧБ РЙЫЕФ нБМЙЛХМШНХМШЛХ: «с РТЙОСМ ЧЙД НПМПДПЗП Й РТЙЗПЦЕЗП ЮЕМПЧЕЛБ, РПФПНХ ЮФП ГЧЕФХЭБС НПМПДПУФШ, РТЙСФОПУФЙ Й ЛТБУПФБ Ч ОЩОЕЫОЕЕ ЧТЕНС ФБЛЦЕ Ч ЧЕУШНБ ОЕНБМПН ХЧБЦЕОЙЙ Й РТЙ ОЕЛПФПТЩИ УМХЮБСИ, ЛБЛ УЛБЪЩЧБАФ, РТПЙЪЧПДСФ ЧЕМЙЛЙЕ ЮХДЕУБ» (лТЩМПЧ й. б. рПМО. УПВТ. УПЮ., Ф. I, У. 43), УТ.:
дБ, ЮЕН ЦЕ ФЩ, цХЦХ, Ч УМХЮБК РПРБМ,
вЕУУЙМЕО ВЩЧЫЙ ФБЛ Й НБМ... (ФБН ЦЕ, Ф. 3, У. 170).
75* ч ДБООПН УМХЮБЕ ДМС ОБУ ОЕЧБЦОП ФП ПВУФПСФЕМШУФЧП, ЮФП Ч РШЕУЕ зПЗПМС «НПМПДПК ЮЕМПЧЕЛ» ПЛБЪЩЧБЕФУС УПЧУЕН ОЕ «МЕЗЛПЧЕТОЩН», Б ФБЛЦЕ СЧМСЕФУС ХЮБУФОЙЛПН ЫХМЕТУЛПК ЫБКЛЙ.
еНХ ЗПФПЧЙФШ ЮЕУФОЩК ЗТПВ,
й ФЙИП ГЕМЙФШ Ч ВМЕДОЩК МПВ
оБ ВМБЗПТПДОПН ТБУУФПСОШЙ.
«вМБЗПТПДОПЕ ТБУУФПСОЙЕ» ЪДЕУШ — ХФЧЕТЦДЕООПЕ РТБЧЙМБНЙ ДХЬМЙ. ч ТБЧОПК УФЕРЕОЙ ХВЙКУФЧП ОБ ДХЬМЙ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ЛБЛ «ЮЕУФОПЕ».
77* «рПТПЫЛПЧЩЕ» — ЖБМШЫЙЧЩЕ ЛБТФЩ (ПФ ЫЕУФЕТЛЙ ДП ДЕУСФЛЙ). лБТФЩ ОБЛМЕЙЧБАФУС ПДОБ ОБ ДТХЗХА, ОБРТЙНЕТ, ЫЕУФЕТЛБ ОБ УЕНЕТЛХ, ЖЙЗХТБ НБУФЙ ЧЩТЕЪБЕФУС, ОБУЩРБООЩК ВЕМЩК РПТПЫПЛ ДЕМБЕФ ЬФП ОЕЪБНЕФОЩН. ыХМЕТ Ч ИПДЕ ЙЗТЩ ЧЩФТСИЙЧБЕФ РПТПЫПЛ, РТЕЧТБЭБС ЫЕУФЕТЛХ Ч УЕНЕТЛХ Й Ф. Д.
79* ч ИПДЕ БЪБТФОЩИ ЙЗТ ФТЕВПЧБМПУШ РПТПК ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЛПМПД. рТЙ ЙЗТЕ Ч ЖБТБПО ВБОЛПНЕФ Й ЛБЦДЩК ЙЪ РПОФЕТПЧ (Б ЙИ НПЗМП ВЩФШ ВПМЕЕ ДЕУСФЛБ) ДПМЦЕО ВЩМ ЙНЕФШ ПФДЕМШОХА ЛПМПДХ. лТПНЕ ФПЗП, ОЕХДБЮМЙЧЩЕ ЙЗТПЛЙ ТЧБМЙ Й ТБЪВТБУЩЧБМЙ ЛПМПДЩ, ЛБЛ ЬФП ПРЙУБОП, ОБРТЙНЕТ, Ч ТПНБОЕ д. о. вЕЗЙЮЕЧБ «уЕНЕКУФЧП иПМНУЛЙИ». йУРПМШЪПЧБООБС («РТПРПОФЙТПЧБООБС») ЛПМПДБ ФХФ ЦЕ ВТПУБМБУШ РПД УФПМ. ьФЙ ТБЪВТПУБООЩЕ, ЮБУФП Ч ПЗТПНОПН ЛПМЙЮЕУФЧЕ, РПД УФПМБНЙ ЛБТФЩ РПЪЦЕ, ЛБЛ РТБЧЙМП, УПВЙТБМЙУШ УМХЗБНЙ Й РТПДБЧБМЙУШ НЕЭБОБН ДМС ЙЗТЩ Ч ДХТБЛБ Й РПДПВОЩЕ ТБЪЧМЕЛБФЕМШОЩЕ ЙЗТЩ. юБУФП Ч ЬФПК ЛХЮЕ ЛБТФ ОБ РПМХ ЧБМСМЙУШ Й ХРБЧЫЙЕ ДЕОШЗЙ, ЛБЛ ЬФП, ОБРТЙНЕТ, ЙНЕМП НЕУФП ЧП ЧТЕНС ЛТХРОЩИ ЙЗТ, ЛПФПТЩЕ БЪБТФОП ЧЕМ о. оЕЛТБУПЧ. рПДЩНБФШ ЬФЙ ДЕОШЗЙ УЮЙФБМПУШ ОЕРТЙМЙЮОЩН, Й ПОЙ ДПУФБЧБМЙУШ РПФПН МБЛЕСН ЧНЕУФЕ У ЛБТФБНЙ. ч ЫХФМЙЧЩИ МЕЗЕОДБИ, ПЛТХЦБЧЫЙИ ДТХЦВХ фПМУФПЗП Й жЕФБ, РПЧФПТСМУС БОЕЛДПФ П ФПН, ЛБЛ жЕФ ЧП ЧТЕНС ЛБТФПЮОПК ЙЗТЩ ОБЗОХМУС, ЮФПВЩ РПДОСФШ У РПМБ ХРБЧЫХА ОЕВПМШЫХА БУУЙЗОБГЙА, Б фПМУФПК, ЪБРБМЙЧ Х УЧЕЮЙ УПФЕООХА, РПУЧЕФЙМ ЕНХ, ЮФПВЩ ПВМЕЗЮЙФШ РПЙУЛЙ.
82* йУФПЛЙ ЬФПЗП РПЧЕДЕОЙС ЪБНЕФОЩ ХЦЕ Ч рЕФЕТВХТЗЕ Ч 1818—1820 ЗПДЩ. пДОБЛП УЕТШЕЪОЩИ РПЕДЙОЛПЧ Х рХЫЛЙОБ Ч ЬФПФ РЕТЙПД ЕЭЕ ОЕ ПФНЕЮЕОП. дХЬМШ У лАИЕМШВЕЛЕТПН ОЕ ЧПУРТЙОЙНБМБУШ рХЫЛЙОЩН ЧУЕТШЕЪ. пВЙДЕЧЫЙУШ ОБ рХЫЛЙОБ ЪБ ЬРЙЗТБННХ «ъБ ХЦЙОПН ПВЯЕМУС С... » (1819), лАИЕМШВЕЛЕТ ЧЩЪЧБМ ЕЗП ОБ ДХЬМШ. рХЫЛЙО РТЙОСМ ЧЩЪПЧ, ОП ЧЩУФТЕМЙМ Ч ЧПЪДХИ, РПУМЕ ЮЕЗП ДТХЪШС РТЙНЙТЙМЙУШ. рТЕДРПМПЦЕОЙЕ ЦЕ чМ. оБВПЛПЧБ П ДХЬМЙ У тЩМЕЕЧЩН ЧУЕ ЕЭЕ ПУФБЕФУС РПЬФЙЮЕУЛПК ЗЙРПФЕЪПК.
ФБММЕНБО ДЕ тЕП цЕДЕПО. ъБОЙНБФЕМШОЩЕ ЙУФПТЙЙ. м., 1974, Ф. 1, У. 159. уН. ПВ ЬФПН: мПФНБО а. фТЙ ЪБНЕФЛЙ Л РТПВМЕНЕ: «рХЫЛЙО Й ЖТБОГХЪУЛБС ЛХМШФХТБ». — рТПВМЕНЩ РХЫЛЙОПЧЕДЕОЙС. тЙЗБ, 1983.
83* ч РТЕДЫЕУФЧХАЭЙИ ТБВПФБИ П «еЧЗЕОЙЙ пОЕЗЙОЕ» НОЕ РТЙИПДЙМПУШ РПМЕНЙЮЕУЛЙ ЧЩУЛБЪЩЧБФШУС П ЛОЙЗЕ вПТЙУБ йЧБОПЧБ (ЧПЪНПЦОП, РУЕЧДПОЙН; РПДМЙООБС ЖБНЙМЙС БЧФПТБ, ЛБЛ Й ЛБЛЙЕ ВЩ ФП ОЙ ВЩМП УЧЕДЕОЙС П ОЕН, НОЕ ОЕЙЪЧЕУФОЩ). уН.: мПФНБО а. «дБМШ УЧПВПДОПЗП ТПНБОБ». н, 1959. уПИТБОСС УХЭОПУФШ УЧПЙИ ЛТЙФЙЮЕУЛЙИ ЪБНЕЮБОЙК П ЪБНЩУМЕ ЬФПК ЛОЙЗЙ, С УЮЙФБА УЧПЕК ПВСЪБООПУФША РТЙЪОБФШ ЙИ ПДОПУФПТПООПУФШ. нОЕ УМЕДПЧБМП ПФНЕФЙФШ, ЮФП БЧФПТ РТПСЧЙМ ИПТПЫЕЕ ЪОБОЙЕ ВЩФБ РХЫЛЙОУЛПК ЬРПИЙ Й УПЕДЙОЙМ ПВЭЙК УФТБООЩК ЪБНЩУЕМ У ТСДПН ЙОФЕТЕУОЩИ ОБВМАДЕОЙК, УЧЙДЕФЕМШУФЧХАЭЙИ ПВ ПВЫЙТОПК ПУЧЕДПНМЕООПУФЙ. тЕЪЛПУФШ НПЙИ ЧЩУЛБЪЩЧБОЙК, П ЛПФПТПК Ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС С УПЦБМЕА, ВЩМБ РТПДЙЛФПЧБОБ МПЗЙЛПК РПМЕНЙЛЙ.
84* рП ДТХЗЙН РТБЧЙМБН, РПУМЕ ФПЗП, ЛБЛ ПДЙО ЙЪ ХЮБУФОЙЛПЧ ДХЬМЙ ЧЩУФТЕМЙМ, ЧФПТПК НПЗ РТПДПМЦБФШ ДЧЙЦЕОЙЕ, Б ФБЛЦЕ РПФТЕВПЧБФШ РТПФЙЧОЙЛБ Л ВБТШЕТХ. ьФЙН РПМШЪПЧБМЙУШ ВТЕФЕТЩ.
86* уТ. Ч «зЕТПЕ ОБЫЕЗП ЧТЕНЕОЙ»: «нЩ ДБЧОП ХЦ ЧБУ ПЦЙДБЕН", — УЛБЪБМ ДТБЗХОУЛЙК ЛБРЙФБО У ЙТПОЙЮЕУЛПК ХМЩВЛПК. с ЧЩОХМ ЮБУЩ Й РПЛБЪБМ ЕНХ. пО ЙЪЧЙОЙМУС, ЗПЧПТС, ЮФП ЕЗП ЮБУЩ ХИПДСФ».
уНЩУМ ЬРЙЪПДБ — Ч УМЕДХАЭЕН: ДТБЗХОУЛЙК ЛБРЙФБО, ХВЕЦДЕООЩК, ЮФП рЕЮПТЙО «РЕТЧЩК ФТХУ», ЛПУЧЕООП ПВЧЙОСЕФ ЕЗП Ч ЦЕМБОЙЙ, ПРПЪДБЧ, УПТЧБФШ ДХЬМШ.
87* хЮБУФЙЕ Ч ДХЬМЙ, ДБЦЕ Ч ЛБЮЕУФЧЕ УЕЛХОДБОФБ, ЧМЕЛМП ЪБ УПВПК ОЕЙЪВЕЦОЩЕ ОЕРТЙСФОЩЕ РПУМЕДУФЧЙС: ДМС ПЖЙГЕТБ ЬФП, ЛБЛ РТБЧЙМП, ВЩМП ТБЪЦБМПЧБОЙЕ Й УУЩМЛБ ОБ лБЧЛБЪ (РТБЧДБ, ТБЪЦБМПЧБООЩН ЪБ ДХЬМШ ОБЮБМШУФЧП ПВЩЛОПЧЕООП РПЛТПЧЙФЕМШУФЧПЧБМП). ьФП УПЪДБЧБМП ЙЪЧЕУФОЩЕ ФТХДОПУФЙ РТЙ ЧЩВПТЕ УЕЛХОДБОФПЧ: ЛБЛ МЙГП, Ч ТХЛЙ ЛПФПТПЗП РЕТЕДБАФУС ЦЙЪОШ Й ЮЕУФШ, УЕЛХОДБОФ, ПРФЙНБМШОП, ДПМЦЕО ВЩМ ВЩФШ ВМЙЪЛЙН ДТХЗПН. оП ЬФПНХ РТПФЙЧПТЕЮЙМП ОЕЦЕМБОЙЕ ЧПЧМЕЛБФШ ДТХЗБ Ч ОЕРТЙСФОХА ЙУФПТЙА, МПНБС ЕНХ ЛБТШЕТХ. уП УЧПЕК УФПТПОЩ, УЕЛХОДБОФ ФБЛЦЕ ПЛБЪЩЧБМУС Ч ФТХДОПН РПМПЦЕОЙЙ. йОФЕТЕУЩ ДТХЦВЩ Й ЮЕУФЙ ФТЕВПЧБМЙ РТЙОСФШ РТЙЗМБЫЕОЙЕ ХЮБУФЧПЧБФШ Ч ДХЬМЙ ЛБЛ МЕУФОЩК ЪОБЛ ДПЧЕТЙС, Б УМХЦВЩ Й ЛБТШЕТЩ — ЧЙДЕФШ Ч ЬФПН ПРБУОХА ХЗТПЪХ ЙУРПТФЙФШ РТПДЧЙЦЕОЙЕ ЙМЙ ДБЦЕ ЧЩЪЧБФШ МЙЮОХА ОЕРТЙСЪОШ ЪМПРБНСФОПЗП ЗПУХДБТС.
88* оБРПНОЙН РТБЧЙМП ДХЬМЙ: «уФТЕМСФШ Ч ЧПЪДХИ ЙНЕЕФ РТБЧП ФПМШЛП РТПФЙЧОЙЛ, УФТЕМСАЭЙК ЧФПТЩН. рТПФЙЧОЙЛ, ЧЩУФТЕМЙЧЫЙК РЕТЧЩН Ч ЧПЪДХИ, ЕУМЙ ЕЗП РТПФЙЧОЙЛ ОЕ ПФЧЕФЙМ ОБ ЧЩУФТЕМ ЙМЙ ФБЛЦЕ ЧЩУФТЕМЙМ Ч ЧПЪДХИ, УЮЙФБЕФУС ХЛМПОЙЧЫЙНУС ПФ ДХЬМЙ... » (дХТБУПЧ. дХЬМШОЩК ЛПДЕЛУ, 1908, У. 104). рТБЧЙМП ЬФП УЧСЪБОП У ФЕН, ЮФП ЧЩУФТЕМ Ч ЧПЪДХИ РЕТЧПЗП ЙЪ РТПФЙЧОЙЛПЧ НПТБМШОП ПВСЪЩЧБЕФ ЧФПТПЗП Л ЧЕМЙЛПДХЫЙА, ХЪХТРЙТХС ЕЗП РТБЧП УБНПНХ ПРТЕДЕМСФШ УЧПЕ РПЧЕДЕОЙЕ ЮЕУФЙ.
ВЕУФХЦЕЧ (нБТМЙОУЛЙК) б. б. оПЮШ ОБ ЛПТБВМЕ. рПЧЕУФЙ Й ТБУУЛБЪЩ. н., 1988, У. 20. рПМШЪХЕНУС ДБООЩН ЙЪДБОЙЕН ЛБЛ ФЕЛУФПМПЗЙЮЕУЛЙ ОБЙВПМЕЕ ДПУФПЧЕТОЩН.
РТПВМЕНБ БЧФПНБФЙЪНБ ЧЕУШНБ ЧПМОПЧБМБ рХЫЛЙОБ; УН.: сЛПВУПО т. уФБФХС Ч РПЬФЙЮЕУЛПК НЙЖПМПЗЙЙ рХЫЛЙОБ. — ч ЛО.: сЛПВУПО т. тБВПФЩ РП РПЬФЙЛЕ. н., 1987, У. 145—180.
УН.: мПФНБО а. н. фЕНБ ЛБТФ Й ЛБТФПЮОПК ЙЗТЩ Ч ТХУУЛПК МЙФЕТБФХТЕ ОБЮБМБ XIX ЧЕЛБ. — хЮЕО. ЪБР. фБТФХУЛПЗП ЗПУ. ХО-ФБ, 1975. чЩР. 365. фТХДЩ РП ЪОБЛПЧЩН УЙУФЕНБН, Ф. VII.
90* вЩЧБМЙ Й ВПМЕЕ ЦЕУФЛЙЕ ХУМПЧЙС. фБЛ, юЕТОПЧ (УН. У. 167), НУФС ЪБ ЮЕУФШ УЕУФТЩ, ФТЕВПЧБМ РПЕДЙОЛБ ОБ ТБУУФПСОЙЙ Ч ФТЙ (!) ЫБЗБ. ч РТЕДУНЕТФОПК ЪБРЙУЛЕ (ДПЫМБ Ч ЛПРЙЙ ТХЛПК б. вЕУФХЦЕЧБ) ПО РЙУБМ: «уФТЕМСАУШ ОБ ФТЙ ЫБЗБ, ЛБЛ ЪБ ДЕМП УЕНЕКУФЧЕООПЕ; ЙВП, ЪОБС ВТБФШЕЧ НПЙИ, ИПЮХ ЛПОЮЙФШ УПВПА ОБ ОЕН, ОБ ЬФПН ПУЛПТВЙФЕМЕ НПЕЗП УЕНЕКУФЧБ, ЛПФПТЩК ДМС РХУФЩИ ФПМЛПЧ ЕЭЕ РХУФЕКЫЙИ МАДЕК РТЕУФХРЙМ ЧУЕ ЪБЛПОЩ ЮЕУФЙ, ПВЭЕУФЧБ Й ЮЕМПЧЕЮЕУФЧБ» (дЕЧСФОБДГБФЩК ЧЕЛ. лО. 1. н., 1872, У. 334). рП ОБУФПСОЙА УЕЛХОДБОФПЧ ДХЬМШ РТПЙУИПДЙМБ ОБ ТБУУФПСОЙЙ Ч ЧПУЕНШ ЫБЗПЧ, Й ЧУЕ ТБЧОП ПВБ ХЮБУФОЙЛБ ЕЕ РПЗЙВМЙ.
92* пВЩЮОЩК НЕИБОЙЪН ДХЬМШОПЗП РЙУФПМЕФБ ФТЕВХЕФ ДЧПКОПЗП ОБЦЙНБ ОБ УРХУЛПЧПК ЛТАЮПЛ, ЮФП РТЕДПИТБОСЕФ ПФ УМХЮБКОПЗП ЧЩУФТЕМБ. ыОЕММЕТПН ОБЪЩЧБМПУШ ХУФТПКУФЧП, ПФНЕОСАЭЕЕ РТЕДЧБТЙФЕМШОЩК ОБЦЙН. ч ТЕЪХМШФБФЕ ХУЙМЙЧБМБУШ УЛПТПУФТЕМШОПУФШ, ОП ЪБФП ТЕЪЛП РПЧЩЫБМБУШ ЧПЪНПЦОПУФШ УМХЮБКОЩИ ЧЩУФТЕМПЧ.
94* рПДПВОЩК ЛПОФТБУФ ЙУРПМШЪПЧБО н. вХМЗБЛПЧЩН Ч «нБУФЕТЕ Й нБТЗБТЙФЕ». оБ ВБМХ, УТЕДЙ РЩЫОП ОБТСЦЕООЩИ ЗПУФЕК, РПДЮЕТЛОХФБС ОЕВТЕЦОПУФШ ПДЕЦДЩ чПМБОДБ ЧЩДЕМСЕФ ЕЗП ТПМШ иПЪСЙОБ. рТПУФПФБ НХОДЙТБ оБРПМЕПОБ УТЕДЙ РЩЫОПЗП ДЧПТБ ЙНЕМБ ФПФ ЦЕ УНЩУМ. рЩЫОПУФШ ПДЕЦДЩ УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ ПВ ПТЙЕОФБГЙЙ ОБ ФПЮЛХ ЪТЕОЙС ЧОЕЫОЕЗП ОБВМАДБФЕМС. дМС чПМБОДБ ОЕФ ФБЛПЗП «ЧОЕЫОЕЗП» ОБВМАДБФЕМС. оБРПМЕПО ЛХМШФЙЧЙТХЕФ ФХ ЦЕ РПЪЙГЙА, ПДОБЛП Ч ВПМЕЕ УМПЦОПН ЧБТЙБОФЕ: чПМБОДХ Ч УБНПН ДЕМЕ ВЕЪТБЪМЙЮОП, ЛБЛ ПО ЧЩЗМСДЙФ, оБРПМЕПО ЙЪПВТБЦБЕФ ФПЗП, ЛПНХ ВЕЪТБЪМЙЮОП, ЛБЛ ПО ЧЩЗМСДЙФ.
ЖЕПЖБОБ рТПЛПРПЧЙЮБ, БТИЙЕРЙУЛПРБ чЕМЙЛПЗП оПЧЗПТПДБ Й чЕМЙЛЙИ мХЛ, УЧСФЕКЫЕЗП РТБЧЙФЕМШУФЧХАЭЕЗП УЙОПДБ ЧЙГЕ-РТЕЪЙДЕОФБ... уМПЧБ Й тЕЮЙ, Ю. 1, 1760, У. 158.
96* фБЛ, ДПУХЗЙ ЧЕМЙЛЙИ ЛОСЪЕК, ВТБФШЕЧ бМЕЛУБОДТБ Й оЙЛПМБС рБЧМПЧЙЮЕК — лПОУФБОФЙОБ Й нЙИБЙМБ ТЕЪЛП ЛПОФТБУФЙТПЧБМЙ У НХОДЙТОПК УФСОХФПУФША ЙИ ПЖЙГЙБМШОПЗП РПЧЕДЕОЙС. лПОУФБОФЙО Ч ЛПНРБОЙЙ РШСОЩИ УПВХФЩМШОЙЛПЧ ДПЫЕМ ДП ФПЗП, ЮФП ЙЪОБУЙМПЧБМ Ч ЛПНРБОЙЙ (ЦЕТФЧБ УЛПОЮБМБУШ) ДБНХ, УМХЮБКОП ЪБВТЕДЫХА Ч ЕЗП ЮБУФШ ДЧПТГБ ЙЪ РПМПЧЙОЩ нБТЙЙ жЕДПТПЧОЩ. йНРЕТБФПТ бМЕЛУБОДТ ЧЩОХЦДЕО ВЩМ ПВЯСЧЙФШ, ЮФП РТЕУФХРОЙЛ, ЕУМЙ ЕЗП ОБКДХФ, ВХДЕФ ОБЛБЪБО РП ЧУЕК УФТПЗПУФЙ ЪБЛПОБ. тБЪХНЕЕФУС, РТЕУФХРОЙЛ ОБКДЕО ОЕ ВЩМ.
п ФЩ, ЮФП Ч ЗПТЕУФЙ ОБРТБУОП
оБ ВПЗБ ТПРЭЕЫШ, ЮЕМПЧЕЛ,
чОЙНБК, ЛПМШ Ч ТЕЧОПУФЙ ХЦБУОП
пО Л йПЧХ ЙЪ ФХЮЙ ТЕЛ!
уЛЧПЪШ ДПЦДШ, УЛЧПЪШ ЧЙИТШ, УЛЧПЪШ ЗТБД ВМЙУФБС
й ЗМБУПН ЗТПНЩ РТЕТЩЧБС,
уМПЧБНЙ ОЕВП ЛПМЕВБМ
й ФБЛ ЕЗП ОБ ТБУРТА ЪЧБМ. ыФЙВМЕФЩ ЛБЛ ЖПТНБ ЧПЕООПК ПДЕЦДЩ ВЩМЙ ЧЧЕДЕОЩ рБЧМПН РП РТХУУЛПНХ ПВТБЪГХ. ьУРБОФПО — ЛПТПФЛБС РЙЛБ, ЧЧЕДЕООБС РТЙ рБЧМЕ Ч ПЖЙГЕТУЛХА ЖПТНХ.
99* чУЕ ОЙФЙ ЪБЗПЧПТБ ВЩМЙ ОБУФПМШЛП УПУТЕДПФПЮЕОЩ Ч ТХЛБИ ЙНРЕТБФПТБ, ЮФП ДБЦЕ ОБЙВПМЕЕ БЛФЙЧОЩЕ ХЮБУФОЙЛЙ ЪБЗПЧПТБ РТПФЙЧ уРЕТБОУЛПЗП: ОБЪЧБООЩК ЧЩЫЕ с. ДЕ уБОЗМЕО Й ЗЕОЕТБМ-БДЯАФБОФ б. д. вБМБЫПЧ, РТЙОБДМЕЦБЧЫЙК Л ОБЙВПМЕЕ ВМЙЪЛЙН Л ЙНРЕТБФПТХ МЙГБН, — РПУМБООЩЕ ДПНПК Л уРЕТБОУЛПНХ У ФЕН, ЮФПВЩ ЪБВТБФШ ЕЗП, ЛПЗДБ ПО ЧЕТОЕФУС ЙЪ ДЧПТГБ РПУМЕ БХДЙЕОГЙЙ Х ГБТС, У ЗТХУФОЩН ОЕДПХНЕОЙЕН РТЙЪОБМЙУШ ДТХЗ ДТХЗХ Ч ФПН, ЮФП ОЕ ХЧЕТЕОЩ, РТЙДЕФУС МЙ ЙН БТЕУФПЧЩЧБФШ уРЕТБОУЛПЗП ЙМЙ ПО РПМХЮЙФ Х ЙНРЕТБФПТБ ТБУРПТСЦЕОЙЕ БТЕУФПЧБФШ ЙИ. ч ЬФЙИ ХУМПЧЙСИ ПЮЕЧЙДОП, ЮФП бМЕЛУБОДТ ОЕ ХУФХРБМ ОЙЮШЕНХ ДБЧМЕОЙА, Б ДЕМБМ ЧЙД, ЮФП ХУФХРБЕФ, ОБ УБНПН ДЕМЕ ФЧЕТДП РТПЧПДС ЙЪВТБООЩК ЙН ЛХТУ, ОП, ЛБЛ ЧУЕЗДБ, МХЛБЧС, НЕОСС НБУЛЙ Й РПДЗПФБЧМЙЧБС ПЮЕТЕДОЩИ ЛПЪМПЧ ПФРХЭЕОЙС.
ГЙФ. РП: иТЕУФПНБФЙС РП ЙУФПТЙЙ ЪБРБДОПЕЧТПРЕКУЛПЗП ФЕБФТБ. н., 1955, Ф. 2, У. 1029. ч НЕНХБТБИ БЛФЕТБ зОБУФБ-НМБДЫЕЗП УПДЕТЦЙФУС ХРПНЙОБОЙЕ П ФПН, ЮФП, ЛПЗДБ ОБ ТЕРЕФЙГЙЙ НБЫЙОЙУФ ЧЩУФБЧЙМ ЗПМПЧХ ЙЪ-ЪБ ЛХМЙУ, «ФПФЮБУ ЦЕ зЈФЕ РТПЗТЕНЕМ: „зПУРПДЙО з"ОБУФ, ХВЕТЙФЕ ЬФХ ОЕРПДИПДСЭХА ЗПМПЧХ ЙЪ-ЪБ РЕТЧПК ЛХМЙУЩ УРТБЧБ: ПОБ ЧФПТЗБЕФУС Ч ТБНЛХ НПЕК ЛБТФЙОЩ"» (ФБН ЦЕ, У. 1037).
БТБРПЧ р. мЕФПРЙУШ ТХУУЛПЗП ФЕБФТБ. урВ., 1861, У. 310. ыБИПЧУЛПК ЙУРПМШЪПЧБМ ФЕБФТБМШОЩК ЬЖЖЕЛФ ЙЪЧЕУФОПЗП Ч ФХ РПТХ БОЕЛДПФБ, УТ. Ч УФЙИПФЧПТЕОЙЙ ч. м. рХЫЛЙОБ «л ЛОСЪА р. б. чСЪЕНУЛПНХ» (1815):
оБ ФТХД ИХДПЦОЙЛБ УЧПЙ ВТПУБАФ ЧЪПТЩ,
«рПТФТЕФ, — ТЕЫЙМЙ ЧУЕ, — ОЕ УФПЙФ ОЙЮЕЗП:
рТСНПК ХТПД, ьЪПР, ОПУ ДМЙООЩК, МПВ У ТПЗБНЙ!
й ДПМЗ ИПЪСЙОБ РТЕДБФШ ПЗОА ЕЗП!» —
«нПК ДПМЗ ОЕ ХЧБЦБФШ ФБЛЙНЙ ЪОБФПЛБНЙ
(п ЮХДП! ЗПЧПТЙФ ЛБТФЙОБ ЙН Ч ПФЧЕФ):
рТЕД ЧБНЙ, ЗПУРПДБ, С УБН, Б ОЕ РПТФТЕФ!»
(рПЬФЩ 1790—1810-И ЗПДПЧ, У. 680.)
101* оБ ЬЖЖЕЛФЕ ОЕПЦЙДБООПЗП УФПМЛОПЧЕОЙС ОЕРПДЧЙЦОПУФЙ Й ДЧЙЦЕОЙС РПУФТПЕОЩ УАЦЕФЩ У ПЦЙЧБАЭЙНЙ УФБФХСНЙ, ПФ ТСДБ ЧБТЙБГЙК ОБ ФЕНХ П зБМБФЕЕ — УФБФХЕ, ПЦЙЧМЕООПК ЧДПИОПЧЕОЙЕН ИХДПЦОЙЛБ (УАЦЕФ ЬФПФ, ЛПФПТПНХ РПУЧСЭЕО «уЛХМШРФПТ» вБТБФЩОУЛПЗП, ВЩМ ЫЙТПЛП РТЕДУФБЧМЕО ЧП ЖТБОГХЪУЛПН ВБМЕФЕ XVIII ЧЕЛБ), ДП «лБНЕООПЗП ЗПУФС» рХЫЛЙОБ Й ТБЪТБВБФЩЧБЧЫЙИ ЬФХ ЦЕ ФЕНХ РТПЙЪЧЕДЕОЙК нПМШЕТБ Й нПГБТФБ.
ИТЕУФПНБФЙС РП ЙУФПТЙЙ ЪБРБДОПЕЧТПРЕКУЛПЗП ФЕБФТБ, Ф. 2, У. 1026. тБУРПМПЦЕОЙЕ РТБЧПЗП Й МЕЧПЗП ФБЛЦЕ ТПДОЙФ УГЕОХ У ЛБТФЙОПК: РТБЧЩН УЮЙФБЕФУС РТБЧПЕ РП ПФОПЫЕОЙА Л БЛФЕТХ, РПЧЕТОХФПНХ МЙГПН Л РХВМЙЛЕ, Й ОБПВПТПФ.
102* уН. Ч «рХФЕЫЕУФЧЙЙ ЙЪ рЕФЕТВХТЗБ Ч нПУЛЧХ» ЗМБЧХ «еДТПЧП»: «с УЙА РПЮФЕООХА НБФШ У ЪБУХЮЕООЩНЙ ТХЛБЧБНЙ ЪБ ЛЧБЫОЕА ЙМЙ У РПДПКОЙЛПН РПДМЕ ЛПТПЧЩ УТБЧОЙЧБМ У ЗПТПДУЛЙНЙ НБФЕТСНЙ».
104* «чЩКДЕН... ДБДЙН ДСДЕ ХНЕТЕФШ ЙУФПТЙЮЕУЛЙ» (ЖТБОГ.). нПУЛЧЙФСОЙО, 1854, 6, ПФД. IV, У. II. р. вБТФЕОЕЧ УППВЭБЕФ ДТХЗХА ЧЕТУЙА: «оБН РЕТЕДБЧБМЙ УПЧТЕНЕООЙЛЙ, ЮФП, ХУМЩЫБЧ ЬФЙ УМПЧБ ПФ ХНЙТБАЭЕЗП чБУЙМЙС мШЧПЧЙЮБ, рХЫЛЙО ОБРТБЧЙМУС ОБ ГЩРПЮЛБИ Л ДЧЕТЙ Й ЫЕРОХМ УПВТБЧЫЙНУС ТПДОЩН Й ДТХЪШСН ЕЗП: „зПУРПДБ, ЧЩКДЕНФЕ, РХФШ ЬФП ВХДХФ ЕЗП РПУМЕДОЙЕ УМПЧБ"» (тХУУЛЙК БТИЙЧ, 1870, У. 1369).
107* уТ. Ч «бМШВПНЕ» пОЕЗЙОБ: «ч лПТБОЕ НОПЗП НЩУМЕК ЪДТБЧЩИ, // чПФ ОБРТЙНЕТ: РТЕД ЛБИЪДЩН УОПН // нПМЙУШ — ВЕЗЙ РХФЕК МХЛБЧЩИ // юФЙ вПЗБ Й ОЕ УРПТШ У ЗМХРГПН». ч «рБНСФОЙЛЕ»: «иЧБМХ Й ЛМЕЧЕФХ РТЙЕНМЙ ТБЧОПДХЫОП // й ОЕ ПУРПТЙЧБК ЗМХРГБ». дЕТЦБЧЙО, ОБРПНЙОБС ЮЙФБФЕМА УЧПА ПДХ «вПЗ», УНСЗЮЙМ ЧЩУПЛПЕ Й ОЕ УПЧУЕН ВЕЪХРТЕЮОПЕ, У ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС ГЕТЛПЧОПК ПТФПДПЛУБМШОПУФЙ, УПДЕТЦБОЙЕ ЬФПЗП УФЙИПФЧПТЕОЙС ЖПТНХМПК: «... РЕТЧЩК С ДЕТЪОХМ... // ч УЕТДЕЮОПК РТПУФПФЕ ВЕУЕДПЧБФШ П вПЗЕ». ч ЬФПН ЛПОФЕЛУФЕ ПВТБЭЕОЙЕ Л нХЪЕ (ИПФС УМПЧП Й ОБРЙУБОП У РТПРЙУОПК ВХЛЧЩ) НПЗМП ЧПУРТЙОЙНБФШУС ЛБЛ РПЬФЙЮЕУЛБС ХУМПЧОПУФШ. ъОБЮЙФЕМШОП ВПМЕЕ ДЕТЪЛЙН ВЩМП ТЕЫЕОЙЕ рХЫЛЙОБ: «чЕМЕОША вПЦЙА, П нХЪБ, ВХДШ РПУМХЫОБ». вПЗ Й нХЪБ ДЕНПОУФТБФЙЧОП УПУЕДУФЧХАФ, РТЙЮЕН ПВБ УМПЧБ ОБРЙУБОЩ У ВПМШЫПК ВХЛЧЩ. ьФП УФБЧЙМП ЙИ Ч ЕДЙОЩК УНЩУМПЧПК Й УЙНЧПМЙЮЕУЛЙК ТСД ТБЧОП ЧЩУПЛЙИ, ОП ОЕУПЧНЕУФЙНЩИ ГЕООПУФЕК. фБЛПЕ ЕДЙОУФЧП УПЪДБЧБМП ПУПВХА РПЪЙГЙА БЧФПТБ, ДПУФХРОПЗП ЧУЕН ЧЕТЫЙОБН ЮЕМПЧЕЮЕУЛПЗП ДХИБ.
108* рЕТЕД рПМФБЧУЛПК ВЙФЧПК рЕФТ I, РП РТЕДБОЙА, УЛБЪБМ: «чПЙОЩ! чПФ РТЙЫЕМ ЮБУ, ЛПФПТЩК ТЕЫБЕФ УХДШВХ пФЕЮЕУФЧБ. йФБЛ, ОЕ ДПМЦОП ЧБН РПНЩЫМСФШ, ЮФП УТБЦБЕФЕУШ ЪБ рЕФТБ, ОП ЪБ ЗПУХДБТУФЧП, рЕФТХ РПТХЮЕООПЕ, ЪБ ТПД УЧПК, ЪБ пФЕЮЕУФЧП». й ДБМЕЕ: «б П рЕФТЕ ЧЕДБКФЕ, ЮФП ЕНХ ЦЙЪОШ ОЕ ДПТПЗБ, ФПМШЛП ВЩ ЦЙМБ тПУУЙС». ьФПФ ФЕЛУФ ПВТБЭЕОЙС рЕФТБ Л УПМДБФБН ОЕМШЪС УЮЙФБФШ БХФЕОФЙЮОЩН. фЕЛУФ ВЩМ Ч РЕТЧПН ЕЗП ЧБТЙБОФЕ УПУФБЧМЕО жЕПЖБОПН рТПЛПРПЧЙЮЕН (ЧПЪНПЦОП, ОБ ПУОПЧЕ ЛБЛЙИ-ФП ХУФОЩИ МЕЗЕОД) Й РПФПН РПДЧЕТЗБМУС ПВТБВПФЛБН (УН.: фТХДЩ ЙНР. ТХУУЛ. ЧПЕООП-ЙУФПТЙЮЕУЛПЗП ПВЭЕУФЧБ, Ф. III, У. 274—276; рЙУШНБ Й ВХНБЗЙ рЕФТБ чЕМЙЛПЗП, Ф. IX, ЧЩР. 1, 3251, РТЙНЕЮ. 1, У. 217—219; ЧЩР. 2, У. 980—983). фП, ЮФП Ч ТЕЪХМШФБФЕ ТСДБ РЕТЕДЕМПЛ ЙУФПТЙЮЕУЛБС ДПУФПЧЕТОПУФШ ФЕЛУФБ УФБМБ ВПМЕЕ ЮЕН УПНОЙФЕМШОПК, У ОБЫЕК ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС РБТБДПЛУБМШОП РПЧЩЫБЕФ ЕЗП ЙОФЕТЕУ, ФБЛ ЛБЛ РТЕДЕМШОП ПВОБЦБЕФ РТЕДУФБЧМЕОЙЕ П ФПН, ЮФП ДПМЦЕО ВЩМ УЛБЪБФШ рЕФТ I Ч ФБЛПК УЙФХБГЙЙ, Б ЬФП ДМС ЙУФПТЙЛБ ОЕ НЕОЕЕ ЙОФЕТЕУОП, ЮЕН ЕЗП РПДМЙООЩЕ УМПЧБ. фБЛПК ЙДЕБМШОЩК ПВТБЪ ЗПУХДБТС-РБФТЙПФБ жЕПЖБО Ч ТБЪОЩИ ЧБТЙБОФБИ УПЪДБЧБМ Й Ч ДТХЗЙИ ФЕЛУФБИ.
110* з. б. зХЛПЧУЛЙК, Б ЪБ ОЙН Й ДТХЗЙЕ ЛПННЕОФБФПТЩ РПМБЗБАФ, ЮФП «УМПЧП ХНЙТБАЭЕЗП лБФПОБ» — ПФУЩМЛБ Л рМХФБТИХ (УН.: тБДЙЭЕЧ б. о. рПМЙ. УПВТ. УПЮ., Ф. 1, У. 295, 485). вПМЕЕ ЧЕТПСФОП РТЕДРПМПЦЕОЙЕ, ЮФП тБДЙЭЕЧ ЙНЕЕФ Ч ЧЙДХ НПОПМПЗ лБФПОБ ЙЪ ПДОПЙНЕООПК ФТБЗЕДЙЙ дДДЙУПОБ, РТПГЙФЙТПЧБООПК ЙН Ч ФПН ЦЕ РТПЙЪЧЕДЕОЙЙ, Ч ЗМБЧЕ «вТПООЙГЩ» (ФБН ЦЕ, У. 269).
111* ьФЙ УМПЧБ УЧЙДЕФЕМШУФЧХАФ, ЮФП ИПФС пРПЮЙОЙО ЙНЕМ ВТБФШЕЧ, ЦЙМ ПО ХЕДЙОЕООП Й ВЩМ ЕДЙОУФЧЕООЩН, ЕУМЙ ОЕ УЮЙФБФШ ЛТЕРПУФОЩИ УМХЗ, ПВЙФБФЕМЕН УЧПЕЗП ПДЙОПЛПЗП ДЕТЕЧЕОУЛПЗП ЦЙМЙЭБ, ЪБРПМОЕООПЗП ЛОЙЗБНЙ.
116* ч ДБООПН УМХЮБЕ НЩ ЙНЕЕН РТБЧП ЗПЧПТЙФШ ЙНЕООП П ФЧПТЮЕУФЧЕ: БОБМЙЪ РПЛБЪЩЧБЕФ, ЮФП лБТБНЪЙО РЕЮБФБМ ФПМШЛП ФХ РЕТЕЧПДОХА МЙФЕТБФХТХ, ЛПФПТБС УППФЧЕФУФЧПЧБМБ ЕЗП УПВУФЧЕООПК РТПЗТБННЕ, Й ОЕ УФЕУОСМУС РЕТЕДЕМЩЧБФШ Й ДБЦЕ ХУФТБОСФШ ФП, ЮФП ОЕ УПЧРБДБМП У ЕЗП ЧЪЗМСДБНЙ.
118* йНЕЕФУС Ч ЧЙДХ ЙЪЧЕУФОЩК Ч 1812 З. БРПЛТЙЖЙЮЕУЛЙК ТБУУЛБЪ П ЛТЕУФШСОЙОЕ, ЛПФПТЩК ПФТХВЙМ УЕВЕ ТХЛХ, ЮФПВЩ ОЕ ЙДФЙ Ч ОБРПМЕПОПЧУЛХА БТНЙА (УТ. УЛХМШРФХТХ рЙНЕОПЧБ «тХУУЛЙК уГЕЧПМБ»).
119* йУФПТЙС ЛПОГЕРГЙК УНЕТФЙ Ч ТХУУЛПК ЛХМШФХТЕ ОЕ ЙНЕЕФ ГЕМПУФОПЗП ПУЧЕЭЕОЙС. дМС УТБЧОЕОЙС У ЪБРБДОП-ЕЧТПРЕКУЛПК ЛПОГЕРГЙЕК НПЦОП РПТЕЛПНЕОДПЧБФШ ЮЙФБФЕМА ЛОЙЗХ: Vovel Michel. La mort et l"Occident de 1300 à nos jours. < Paris >, Gallimard, 1983
120* пО РТЙИПДЙМУС ТПДУФЧЕООЙЛПН ФПНХ НПУЛПЧУЛПНХ ЗМБЧОПЛПНБОДХАЭЕНХ, ЛОСЪА б. б. рТПЪПТПЧУЛПНХ, ЛПФПТЩК РПЪЦЕ У ЦЕУФПЛПУФША РТЕУМЕДПЧБМ о. оПЧЙЛПЧБ Й НПУЛПЧУЛЙИ НБТФЙОЙУФПЧ Й П ЛПФПТПН рПФЕНЛЙО УЛБЪБМ еЛБФЕТЙОЕ, ЮФП ПОБ ЧЩДЧЙОХМБ ЙЪ УЧПЕЗП БТУЕОБМБ «УБНХА УФБТХА РХЫЛХ», ЛПФПТБС ОЕРТЕНЕООП ВХДЕФ УФТЕМСФШ Ч ГЕМШ ЙНРЕТБФТЙГЩ, РПФПНХ ЮФП УЧПЕК ОЕ ЙНЕЕФ. пДОБЛП ПО ЧЩУЛБЪБМ ПРБУЕОЙЕ, ЮФПВЩ рТПЪПТПЧУЛЙК ОЕ ЪБРСФОБМ Ч ЗМБЪБИ РПФПНУФЧБ ЙНС еЛБФЕТЙОЩ ЛТПЧША. рПФЕНЛЙО ПЛБЪБМУС РТПЧЙДГЕН.
121* зБМЕТБ — ЧПЕООЩК ЛПТБВМШ ОБ ЧЕУМБИ. лПНБОДБ ЗБМЕТЩ УПУФПЙФ ЙЪ ЫФБФБ НПТУЛЙИ ПЖЙГЕТПЧ, ХОФЕТ-ПЖЙГЕТПЧ Й УПМДБФ-БТФЙММЕТЙУФПЧ, НПТСЛПЧ Й РТЙЛПЧБООЩИ ГЕРСНЙ ЛБФПТЦОЙЛПЧ ОБ ЧЕУМБИ. зБМЕТЩ ХРПФТЕВМСМЙУШ Ч НПТУЛЙИ УТБЦЕОЙСИ ЛБЛ ОЕ ЪБЧЙУСЭЕЕ ПФ ОБРТБЧМЕОЙС ЧЕФТБ Й ПВМБДБАЭЕЕ ВПМШЫПК РПДЧЙЦОПУФША УТЕДУФЧП. рЕФТ I РТЙДБЧБМ ВПМШЫПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ТБЪЧЙФЙА ЗБМЕТОПЗП ЖМПФБ. уМХЦВБ ОБ ЗБМЕТБИ УЮЙФБМБУШ ПУПВЕООП ФСЦЕМПК.
124* ч ЬФПН НЕУФЕ Ч РХВМЙЛБГЙЙ зПМЙЛПЧБ ТЕЮШ рЕФТБ ДБОБ Ч ВПМЕЕ РТПУФТБООПН ЧЙДЕ; УОЙУИПДЙФЕМШОПУФШ рЕФТБ ЕЭЕ ВПМЕЕ РПДЮЕТЛОХФБ: «фЩ ЧЮЕТБ ВЩМ Ч ЗПУФСИ; Б НЕОС УЕЗПДОС ЪЧБМЙ ОБ ТПДЙОЩ; РПЕДЕН УП НОПА».
126* ч НЕНХБТБИ оЕРМАЕЧ ТЙУХЕФ ЛТБУПЮОЩЕ ЛБТФЙОЩ ЬФПК ДТБНБФЙЮЕУЛПК УЙФХБГЙЙ: «... ЦБМЕС ЦЕОХ НПА Й ДЕФЕК, ФБЛЦЕ Й УМХЦЙФЕМЕК, Ч РТЕДНЕУФЙК Х гБТШЗТБДБ, ЙНЕОХЕНПН вХАЛДЕТЕ, ЪБРЕТУС Ч ПУПВХА ЛПНОБФХ Й РПМХЮБМ РТПРЙФБОЙЕ Ч ПЛОП, ОЙЛПЗП Л УЕВЕ ОЕ ДПРХУЛБС; ЦЕОБ НПС ЕЦЕЮБУОП Х ДЧЕТЕК П ФПН УП УМЕЪБНЙ РТПУЙМБ НЕОС» (У. 124). мЕЮЙМУС ПО «РТЙОЙНБОЙЕН ИЙОЩ У ЧПДПК» (ФБН ЦЕ).
128* уМПЧП «ИХДПЦЕУФЧП» ПЪОБЮБМП Ч ФХ РПТХ РПОСФЙЕ, РЕТЕДБЧБЕНПЕ ОБНЙ ФЕРЕТШ УМПЧПН «ТЕНЕУМП». н. бЧТБНПЧ, ЛБЛ ЮЕМПЧЕЛ УЧПЕК ЬРПИЙ, Ч ЦЙЧПРЙУЙ РПДЮЕТЛЙЧБЕФ ТЕНЕУМП — УПЮЕФБОЙЕ ФТХДБ Й ХНЕОЙС. дМС МАДЕК рЕФТПЧУЛПК ЬРПИЙ УМПЧБ «ТЕНЕУМП», «ХНЕОЙЕ» ЪЧХЮБМЙ ФПТЦЕУФЧЕООЕЕ Й ДБЦЕ РПЬФЙЮОЕЕ, ЮЕН УМПЧП «ФБМБОФ». ьФПФ РБЖПУ РПЪЦЕ ПФТБЦЕО Ч УМПЧБИ б. ж. нЕТЪМСЛПЧБ «УЧСФБС ТБВПФБ» П РПЬЪЙЙ; Ч УМПЧБИ (РПЧФПТСАЭЙИ л рБЧМПЧХ) н. гЧЕФБЕЧПК «тЕНЕУМЕООЙЛ, С ЪОБА ТЕНЕУМП» Й бООЩ бИНБФПЧПК «УЧСФПЕ ТЕНЕУМП».
УН.: пРЙУБОЙЕ ЙЪДБОЙК ЗТБЦДБОУЛПК РЕЮБФЙ. 1708 — СОЧБТШ 1725. н.; м., 1955, У. 125—126; УН. ФБЛЦЕ: пРЙУБОЙЕ ЙЪДБОЙК, ОБРЕЮБФБООЩИ РТЙ рЕФТЕ I. уЧПДОЩК ЛБФБМПЗ. м., 1972.
130* уНЩУМ ЬФЙИ УМПЧ ПВЯСУОСЕФУС РТПФЙЧПРПУФБЧМЕОЙЕН ЫЙТПЛПЗП РХФЙ, ЧЕДХЭЕЗП Ч БД, Й ХЪЛПЗП, «ФЕУОПЗП», ЧЕДХЭЕЗП Ч ТБК. уТ. УМПЧБ РТПФПРПРБ бЧЧБЛХНБ П «ФЕУОПН» РХФЙ Ч ТБК. тЕБМЙЪХС НЕФБЖПТХ, бЧЧБЛХН ЗПЧПТЙМ, ЮФП ФПМУФЩЕ, «ВТАИБФЩЕ» ОЙЛПОЙБОЕ Ч ТБК ОЕ РПРБДХФ.
131* рП ЛБРТЙЪОПНХ РЕТЕРМЕФЕОЙА УАЦЕФПЧ Й УХДЕВ, ЙНЕООП ЧП ЧТЕНС УМЕДУФЧЙС РП ДЕМХ ГБТЕЧЙЮБ бМЕЛУЕС ДПУФЙЗМБ БРПЗЕС ЛБТШЕТБ з. з. уЛПТОСЛПЧБ-рЙУБТЕЧБ, УХДШВБ ЛПФПТПЗП РПЪЦЕ ОЕПЦЙДБООП РЕТЕУЕЮЕФУС У УХДШВПК бЧТБНПЧБ.
133* нПЦОП УПНОЕЧБФШУС Й Ч ФПН, ЮФП ТПНБОФЙЮЕУЛЙК ВТБЛ оЕЮЕЧПМПДПЧБ У ЮЕТЛЕЫЕОЛПК РПМХЮЙМ ГЕТЛПЧОПЕ ВМБЗПУМПЧЕОЙЕ. рЕТЕЧПД УАЦЕФБ «лБЧЛБЪУЛПЗП РМЕООЙЛБ» ОБ СЪЩЛ ВЩФПЧПК ТЕБМШОПУФЙ УЧСЪБО ВЩМ У ОЕЛПФПТЩНЙ ФТХДОПУФСНЙ.
134* фБЛ, ОБРТЙНЕТ, Ч ЙЪДБОЙЙ ЕЗП АТЙДЙЮЕУЛЙИ УПЮЙОЕОЙК й. дХЫЕЮЛЙОПК ВЩМЙ ПВОБТХЦЕОЩ УПФОЙ ФЕЛУФПМПЗЙЮЕУЛЙИ ПЫЙВПЛ ОБ ОЕУЛПМШЛЙИ ДЕУСФЛБИ УФТБОЙГ; РПУЛПМШЛХ ОЕЛПФПТЩЕ УФТБОЙГЩ ЙЪДБОЙС ДБАФ ЖПФПФЙРЙЮЕУЛПЕ ЧПУРТПЙЪЧЕДЕОЙЕ ТХЛПРЙУЕК, МАВПРЩФОЩК ЮЙФБФЕМШ, УПРПУФБЧМСС ЙИ У ФХФ ЦЕ РТЙЧЕДЕООЩНЙ РЕЮБФОЩНЙ УФТБОЙГБНЙ, НПЦЕФ ПВОБТХЦЙФШ РТПРХУЛЙ ГЕМЩИ УФТПЛ Й ДТХЗЙЕ РМПДЩ ВЕЪПФЧЕФУФЧЕООПУФЙ Й ОЕЧЕЦЕУФЧБ.
УН. ЗМБЧХ «тПМШ тБДЙЭЕЧБ Ч УРМПЮЕОЙЙ РТПЗТЕУУЙЧОЩИ УЙМ». — ч ЛО.: вБВЛЙО д. у. б. о. тБДЙЭЕЧ. мЙФЕТБФХТОП-ПВЭЕУФЧЕООБС ДЕСФЕМШОПУФШ. н.; м., 1966.
135* дМС РТПУЧЕФЙФЕМС ОБТПД — РПОСФЙЕ ВПМЕЕ ЫЙТПЛПЕ, ЮЕН ФБ ЙМЙ ЙОБС УПГЙБМШОБС ЗТХРРБ. тБДЙЭЕЧ, ЛПОЕЮОП, Й Ч ХНЕ ОЕ НПЗ РТЕДУФБЧЙФШ ОЕРПУТЕДУФЧЕООПК ТЕБЛГЙЙ ЛТЕУФШСОЙОБ ОБ ЕЗП ЛОЙЗХ. ч ОБТПД ЧИПДЙМБ ДМС ОЕЗП ЧУС НБУУБ МАДЕК, ЛТПНЕ ТБВПЧ ОБ ПДОПН РПМАУЕ Й ТБВПЧМБДЕМШГЕЧ — ОБ ДТХЗПН.
ФБН ЦЕ, Ф. 2, У. 292—293, 295. йНЕЕФУС Ч ЧЙДХ НПОПМПЗ лБФПОБ Ч ПДОПЙНЕООПК ФТБЗЕДЙЙ бДДЙУПОБ, ЗДЕ лБФПО ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ УБНПХВЙКУФЧП ЛБЛ ЛТБКОАА УЙМХ ФПТЦЕУФЧБ УЧПВПДЩ ОБД ТБВУФЧПН.
136* лБТБНЪЙО, ЛБЛ НПЦОП УХДЙФШ, ВЩМ ЧЪЧПМОПЧБО УБНПХВЙКУФЧПН тБДЙЭЕЧБ Й ПРБУБМУС ЧПЪДЕКУФЧЙС ЬФПЗП РПУФХРЛБ ОБ УПЧТЕНЕООЙЛПЧ. ьФЙН, ЧЙДЙНП, ПВЯСУОСЕФУС ФП, ЮФП БЧФПТ, ДП ЬФПЗП У УПЮХЧУФЧЙЕН ПРЙУБЧЫЙК ГЕМХА ГЕРШ УБНПХВЙКУФЧ ПФ ОЕУЮБУФМЙЧПК МАВЧЙ ЙМЙ РТЕУМЕДПЧБОЙК РТЕДТБУУХДЛПЧ, Ч ЬФП ЧТЕНС Ч ТСДЕ УФБФЕК Й РПЧЕУФЕК ЧЩУФХРЙМ У ПУХЦДЕОЙЕН РТБЧБ ЮЕМПЧЕЛБ УБНПЧПМШОП ЛПОЮБФШ УЧПА ЦЙЪОШ.
138* оЕЙЪЧЕУФОП, У РПНПЭША ЛБЛЙИ УТЕДУФЧ, — НПЦЕФ ВЩФШ, РПФПНХ, ЮФП Ч ДБМЕЛПК уЙВЙТЙ ДЕОШЗЙ ЧЩЗМСДЕМЙ ХВЕДЙФЕМШОЕЕ, ЮЕН УФПМЙЮОЩЕ ЪБРТЕФЩ, — Й ПО, ЧЙДЙНП, ПЖПТНЙМ ЬФПФ ВТБЛ Й ГЕТЛПЧОЩН ТЙФХБМПН. рП ЛТБКОЕК НЕТЕ, ТПДЙЧЫЙКУС Ч уЙВЙТЙ УЩО рБЧЕМ УЮЙФБМУС ЪБЛПООЩН, Й ОЙЛБЛЙИ ФТХДОПУФЕК, УЧСЪБООЩИ У ЬФЙН, Ч ДБМШОЕКЫЕН ОЕ ЧПЪОЙЛБМП.
139* йОФЕТЕУХАЭЕЕ ОБУ УЕКЮБУ РЙУШНП Ч ПТЙЗЙОБМЕ ОБРЙУБОП РП-ЖТБОГХЪУЛЙ. ч ДБООПН НЕУФЕ Ч РЕТЕЧПДЕ ДПРХЭЕОБ ЙУЛМАЮЙФЕМШОП ЧБЦОБС ОЕФПЮОПУФШ. жТБОГХЪУЛПЕ «une irréligion» (ФБН ЦЕ, У. 118) РЕТЕЧЕДЕОП ЛБЛ «ВЕЪЧЕТЙЕ». оБ УБНПН ДЕМЕ ТЕЮШ ЙДЕФ ОЕ П ВЕЪЧЕТЙЙ, ХРТЕЛБФШ Ч ЛПФПТПН тХУУП ВЩМП ВЩ ЬМЕНЕОФБТОПК ПЫЙВЛПК, Б П ДЕЙУФЙЮЕУЛПН УФТЕНМЕОЙЙ РПУФБЧЙФШ ЧЕТХ ЧЩЫЕ ПФДЕМШОЩИ ТЕМЙЗЙК
140* рПУМЕДОЙЕ УМПЧБ ЧП ЖТБОГХЪУЛПН РЙУШНЕ уХЧПТПЧБ РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК «ТХУУЛЙК» ФЕЛУФ, ОБРЙУБООЩК МБФЙОЙГЕК, РТЕЪТЙФЕМШОЩК ЧПМСРАЛ, РЕТЕДТБЪОЙЧБАЭЙК ЖТБОГХЪУЛХА ТЕЮШ ТХУУЛЙИ ДЧПТСО.
141* уХЧПТПЧ ХРПФТЕВМСЕФ ЧЩТБЦЕОЙЕ «loi naturelle». ч ГЙФЙТХЕНПН ЙЪДБОЙЙ ПОП РЕТЕЧЕДЕОП ЛБЛ «ЪБЛПО РТЙТПДЩ», ЮФП РПМОПУФША ЙУЛБЦБЕФ ЕЗП УНЩУМ. уХЧПТПЧ ЙУРПМШЪХЕФ МЕЛУЙЛХ ЙЪ ФЕТНЙОПМПЗЙЙ УЛПФПЧПДУФЧБ, ЗДЕ «ОБФХТБ» ПЪОБЮБЕФ ЛБЮЕУФЧП РПТПДЩ. рЕТЕЧПД УМПЧПН «ЕУФЕУФЧЕООЩК» Ч ДБООПН ЙЪДБОЙЙ ПЫЙВПЮЕО.
УН.: рБОЮЕОЛП б. н. уНЕИ ЛБЛ ЪТЕМЙЭЕ. — ч ЛО.: уНЕИ Ч дТЕЧОЕК тХУЙ. м., 1984, У. 72—153. жХЛУ е. бОЕЛДПФЩ ЛОСЪС йФБМЙКУЛПЗП, ЗТБЖБ уХЧПТПЧБ тЩНОЙЛУЛПЗП. урВ., 1900, У. 20—21.
142* йЗТБ УХДШВЩ РТЙЧЕМБ Ч ДБМШОЕКЫЕН е. жХЛУБ ОБ УИПДОПК ДПМЦОПУФЙ Ч РПИПДОХА ЛБОГЕМСТЙА лХФХЪПЧБ ЧП ЧТЕНС пФЕЮЕУФЧЕООПК ЧПКОЩ 1812 ЗПДБ. ьФПФ ОЕЪБНЕФОЩК ЮЕМПЧЕЛ РПОАИБМ Ч УЧПЕК ЦЙЪОЙ РПТПИБ, Й ЕУМЙ ПО ОЕ ВЩМ ЛТЙФЙЮЕУЛЙН ЙУФПТЙЛПН, ФП ЪБФП РЙУБМ П ФПН, ЮФП УБН ЧЙДЕМ Й РЕТЕЦЙМ.
ЧПЕООПЗП ЛТБУОПТЕЮЙС ЮБУФШ РЕТЧБС, УПДЕТЦБЭБС ПВЭЙЕ ОБЮБМБ УМПЧЕУОПУФЙ. уПЮЙОЕОЙЕ ПТДЙОБТОПЗП РТПЖЕУУПТБ уБОЛФРЕФЕТВХТЗУЛПЗП хОЙЧЕТУЙФЕФБ сЛПЧБ фПМНБЮЕЧБ. урВ., 1825, У. 47. пТЙЗЙОБМШОБС УФЙМЙУФЙЛБ ЬФПЗП РЙУШНБ, ЧЙДЙНП, ЫПЛЙТПЧБМБ ЧПЕООЩИ ЙУФПТЙЛПЧ ПФ е. жХЛУБ ДП ТЕДБЛФПТПЧ ЮЕФЩТЕИФПНОПЗП «уПВТБОЙС ДПЛХНЕОФПЧ» 1950—1952 ЗЗ. Й ч. у. мПРБФЙОБ (1987). оЙ Ч ПДОП ЙЪ ЬФЙИ ЙЪДБОЙК РЙУШНП ОЕ ВЩМП ЧЛМАЮЕОП. нЕЦДХ ФЕН ПОП РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ЙУЛМАЮЙФЕМШОП СТЛЙК ДПЛХНЕОФ МЙЮОПУФЙ Й УФЙМС РПМЛПЧПДГБ.
144* х уХЧПТПЧБ ЙНЕМУС ФБЛЦЕ УЩО бТЛБДЙК, ОП ЖЕМШДНБТЫБМ ВЩМ ЗПТБЪДП ВПМЕЕ РТЙЧСЪБО Л ДПЮЕТЙ. бТЛБДЙК ДПЦЙМ МЙЫШ ДП ДЧБДГБФЙ УЕНЙ МЕФ Й РПЗЙВ, ХФПОХЧ Ч ФПН УБНПН тЩНОЙЛЕ, ЪБ РПВЕДХ ОБ ЛПФПТПН ПФЕГ ЕЗП РПМХЮЙМ ФЙФХМ тЩНОЙЛУЛПЗП.
147* нХОДЙТ Й ПТДЕО Ч ЬФПН ЛХМШФХТОПН ЛПОФЕЛУФЕ ЧЩУФХРБАФ ЛБЛ УЙОПОЙНЩ: ОБЗТБДБ НПЗМБ ЧЩТБЦБФШУС ЛБЛ Ч ЖПТНЕ ПТДЕОБ, ФБЛ Й Ч ЧЙДЕ ОПЧПЗП ЮЙОБ, ЮФП ПФТБЦБМПУШ Ч НХОДЙТЕ.
149* рП ЬФПНХ ЦЕ ДЕМХ ВЩМ БТЕУФПЧБО Й ЪБЛМАЮЕО Ч рЕФТПРБЧМПЧУЛХА ЛТЕРПУФШ еТНПМПЧ. рПУМЕ ХВЙКУФЧБ ЙНРЕТБФПТБ ПО ВЩМ ПУЧПВПЦДЕО Й У ОЕПРТБЧДБЧЫЙНУС ПРФЙНЙЪНПН ОБРЙУБМ ОБ ДЧЕТСИ УЧПЕК ЛБНЕТЩ: «оБЧУЕЗДБ УЧПВПДОБ ПФ РПУФПС». рТПЫМП 25 МЕФ, Й ТБЧЕМЙО, ЛБЛ Й ЧУС ЛТЕРПУФШ, ВЩМ ЪБРПМОЕО БТЕУФПЧБООЩНЙ ДЕЛБВТЙУФБНЙ
152* хВПТОБС — ЛПНОБФБ ДМС РЕТЕПДЕЧБОЙС ЙЪ ХФТЕООЙИ ФХБМЕФПЧ Ч ДОЕЧОПЕ РМБФШЕ, Б ФБЛЦЕ ДМС РТЙЮЕУЩЧБОЙС Й УПЧЕТЫЕОЙС НБЛЙСЦБ. фЙРПЧБС НЕВЕМШ ХВПТОПК УПУФПСМБ ЙЪ ЪЕТЛБМБ, ФХБМЕФОПЗП УФПМЙЛБ Й ЛТЕУЕМ ДМС ИПЪСКЛЙ Й ЗПУФЕК.
ЪБРЙУЛЙ ДАЛБ мЙТЙКУЛПЗП... РПУМБ ЛПТПМС йУРБОУЛПЗП, 1727—1730 ЗПДПЧ. рВ., 1847, У. 192—193. ч РТЙМПЦЕОЙЙ Л ЬФПК ЛОЙЗЕ ПРХВМЙЛПЧБОЩ УПЮЙОЕОЙС жЕПЖБОБ рТПЛПРПЧЙЮБ, ГЙФЙТХЕНЩЕ ОБНЙ.
154* рХЫЛЙО У ПВЩЮОПК ДМС ОЕЗП ЗМХВЙОПК РПДЮЕТЛЙЧБЕФ, ЮФП ЗЙВЕМШ ЪБ ДЕМП, ЛПФПТПЕ ЮЕМПЧЕЛ УЮЙФБМ УРТБЧЕДМЙЧЩН, ПРТБЧДЩЧБЕФУС ЬФЙЛПК ЮЕУФЙ, ДБЦЕ ЕУМЙ Ч ЗМБЪБИ РПФПНУФЧБ ПОП ЧЩЗМСДЙФ, ОБРТЙНЕТ, ЛБЛ РТЕДТБУУХДПЛ.
ЙОФЕТЕУОЩК ПЮЕТЛ МЙФЕТБФХТОПЗП ПВТБЪБ ВПСТЩОЙ нПТПЪПЧПК УН.: рБОЮЕОЛП б. н. вПСТЩОС нПТПЪПЧБ — УЙНЧПМ Й НЙЖ. — ч ЛО.: рПЧЕУФШ П ВПСТЩОЕ нПТПЪПЧПК. н., 1979.
155* мЙЮОХА ДХЫЕЧОХА НСЗЛПУФШ мБВЪЙО УПЮЕФБМ У ЗТБЦДБОУЛПК УНЕМПУФША. пФЛТЩФЩК РТПФЙЧОЙЛ бТБЛЮЕЕЧБ, ПО РПЪЧПМЙМ УЕВЕ ДЕТЪЛПЕ ЪБСЧМЕОЙЕ: ОБ УПЧЕФЕ Ч бЛБДЕНЙЙ ИХДПЦЕУФЧ Ч ПФЧЕФ ОБ РТЕДМПЦЕОЙЕ ЙЪВТБФШ Ч бЛБДЕНЙА бТБЛЮЕЕЧБ, ЛБЛ МЙГП, ВМЙЪЛПЕ ЗПУХДБТА, ПО РТЕДМПЦЙМ ЙЪВТБФШ ГБТУЛПЗП ЛХЮЕТБ йМША — «ФБЛЦЕ ВМЙЪЛХА ЗПУХДБТА ЙНРЕТБФПТХ ПУПВХ» (ыЙМШДЕТ о. л. йНРЕТБФПТ бМЕЛУБОДТ рЕТЧЩК. еЗП ЦЙЪОШ Й ГБТУФЧПЧБОЙЕ. урВ., 1898, Ф. IV, У. 267). ъБ ЬФП ПО ЪБРМБФЙМ ХЧПМШОЕОЙЕН ПФ УМХЦВЩ Й УУЩМЛПК, ЛПФПТХА РЕТЕОЕУ У ВПМШЫПК ФЧЕТДПУФША.
Дуэль (поединок) – происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесенного оскорблением. Таким образом, роль дуэли – социально-знаковая.
Дуэль представляет собой определенную процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия «честь» в общей системе этики русского европеизированного послепетровского дворянского общества. Естественно, что с позиции, в принципе отвергавшей это понятие, дуэль теряла смысл, превращаясь в ритуализированное убийство.
Русский дворянин XVIII – начала XIX века жил и действовал под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. Как верноподданный, слуга государства, он подчинялся приказу. Психологическим стимулом подчинения был страх перед карой, настигающей ослушника. Но в то же время, как дворянин, человек сословия, которое одновременно было и социально господствующей корпорацией, и культурной элитой, он подчинялся законам чести. Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения. В этом смысле значение приобретают занятия, демонстрирующие бесстрашие. Так, например, если «регулярное государство» Петра I еще рассматривает поведение дворянина на войне как служение государственной пользе, а храбрость его – лишь как средство для достижения этой цели, то с позиций чести храбрость превращается в самоцель. С этих позиций переживает известную реставрацию средневековая рыцарская этика. С подобной точки зрения (своеобразно отразившейся и в «Слове о полку Игореве», и в «Девгениевых деяниях») поведение рыцаря не измеряется поражением или победой, а имеет самодовлеющую ценность.
Особенно ярко это проявляется в отношении к дуэли: опасность, сближение лицом к лицу со смертью становятся очищающими средствами, снимающими с человека оскорбление. Сам оскорбленный должен решить (правильное решение свидетельствует о степени его владения законами чести): является ли бесчестие настолько незначительным, что для его снятия достаточно демонстрации бесстрашия – показа готовности к бою (примирение возможно после вызова и его принятия – принимая вызов, оскорбитель тем самым показывает, что считает противника равным себе и, следовательно, реабилитирует его честь) или знакового изображения боя (примирение происходит после обмена выстрелами или ударами шпаги без каких-либо кровавых намерений с какой-либо стороны). Если оскорбление было более серьезным, таким, которое должно быть смыто кровью, дуэль может закончиться первым ранением (чьим – не играет роли, поскольку честь восстанавливается не нанесением ущерба оскорбителю или местью ему, а фактом пролития крови, в том числе и своей собственной). Наконец, оскорбленный может квалифицировать оскорбление как смертельное, требующее для своего снятия гибели одного из участников ссоры. Существенно, что оценка меры оскорбления – незначительное, кровное или смертельное – должна соотноситься с оценкой со стороны социальной среды (например, с полковым общественным мнением). Человек, слишком легко идущий на примирение, может прослыть трусом, неоправданно кровожадный – бретером.
Дуэль, как институт корпоративной чести, встречала оппозицию с двух сторон. С одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно. В «Патенте о поединках и начинании ссор», составлявшем 49-ю главу петровского «Устава воинского» (1716), предписывалось: «Ежели случится, что двое на назначенное место выдут, и один против другаго шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать. <...> Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешаны да будут». К. А. Софроненко считает, что «Патент» направлен «против старой феодальной знати». В том же духе высказывался и Н. Л. Бродский, который считал, что «дуэль – порожденный феодально-рыцарским обществом обычай кровавой расправы-мести, сохранялся в дворянской среде». Однако дуэль в России не была пережитком, поскольку ничего аналогичного в быту русской «старой феодальной знати» не существовало. На то, что поединок представляет собой нововведение, недвусмысленно указывала Екатерина II: «Предубеждения, не от предков полученные, но перенятые или наносные, чуждые» («Грамота» от 21 апреля 1787 г., ср.: «Наказ», статья 482).
Характерно высказывание Николая I: «Я ненавижу дуэли; это – варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского».
На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли указал еще Монтескье: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем… <...> Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота?»
Естественно, что в официальной литературе дуэли преследовались как проявление свободолюбия, «возродившееся зло самонадеянности и вольнодумства века сего».
С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме и Природе. С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры или критики. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев писал: «… вы твердой имеете дух, и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом».
«Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один волосочик, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле… Хворающий зубами даст ли ответ вполголоса, насморк имеющий скажет ли что-нибудь в нос… ни на что не смотрят!. Того и гляди, что по эфес шпага!.. Также глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или недовидел поклона… статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка!» Эта позиция запечатлена и в басне А. Е. Измайлова «Поединок». Известно отрицательное отношение к дуэли А. Суворова. Отрицательно относились к дуэли и масоны.
Таким образом, в дуэли, с одной стороны, могла выступать на первый план узко сословная идея защиты корпоративной чести, а с другой – общечеловеческая, несмотря на архаические формы, идея защиты человеческого достоинства. Перед лицом поединка придворный шаркун, любимец императора, аристократ и флигель-адъютант В. Д. Новосильцев оказывался равен подпоручику Семеновского полка без состояния и связей из провинциальных дворян, К. П. Чернову.
В связи с этим отношение декабристов к поединку было двойственным. Допуская в теории негативные высказывания в духе общепросветительской критики дуэли, декабристы практически широко пользовались правом поединка. Так, Е. П. Оболенский убил на дуэли некоего Свиньина; многократно вызывал разных лиц и с несколькими дрался К. Ф. Рылеев; А. И. Якубович слыл бретером. Шумный отклик у современников вызвала дуэль Новосильцева и Чернова, которая приобрела характер политического столкновения между защищавшим честь сестры членом тайного общества и презирающим человеческое достоинство простых людей аристократом. Оба дуэлянта скончались через несколько дней от полученных ран. Северное общество превратило похороны Чернова в первую в России уличную манифестацию.
Взгляд на дуэль как на средство защиты своего человеческого достоинства не был чужд и Пушкину . В кишиневский период Пушкин оказался в обидном для его самолюбия положении штатского молодого человека в окружении людей в офицерских мундирах, уже доказавших на войне свое несомненное мужество. Так объясняется преувеличенная щепетильность его в этот период в вопросах чести и почти бретерское поведение. Кишиневский период отмечен в воспоминаниях современников многочисленными вызовами Пушкина. Характерный пример – дуэль его с подполковником С. Н. Старовым, о которой оставил воспоминания В. П. Горчаков. Дурное поведение Пушкина во время танцев в офицерском собрании, заказавшего, вопреки требованию офицеров, танец по собственному выбору, стало причиной дуэли. Показательно, что вызов поэту был направлен не кем-либо из непосредственно участвовавших в размолвке младших офицеров, а – от их имени – находившимся тут же командиром 33-го егерского полка С. Старовым. Старов был на 19 лет старше Пушкина и значительно превосходил его чином. Такой вызов противоречил требованию равенства противников и явно представлял собой попытку осадить нахального штатского мальчишку. Предполагалось, очевидно, что Пушкин испугается дуэли и пойдет на публичное извинение. Далее события развивались в следующем порядке. Старов «подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру. "Вы сделали невежливость моему офицеру, – сказал С<таро>в, взглянув решительно на Пушкина, – так не угодно ли Вам извиниться перед ним, или Вы будете иметь дело лично со мной". – "В чем извиняться, полковник, – отвечал быстро Пушкин, – я не знаю; что же касается до Вас, то я к вашим услугам". – "Так до завтра, Александр Сергеевич". – "Очень хорошо, полковник". Пожав друг другу руки, они расстались. <...> Когда съехались на место дуэли, метель с сильным ветром мешала прицелу, противники сделали по выстрелу, и оба дали промах; еще по выстрелу, и снова промах; тогда секунданты решительно настояли, чтобы дуэль, если не хотят так кончить, была отменена непременно, и уверяли, что уже нет более зарядов. "Итак, до другого раза", – повторили оба в один голос. "До свиданья, Александр Сергеевич". – "До свиданья, полковник".
Дуэль была проведена по всем правилам ритуала чести: между стреляющимися не было личной неприязни, а безукоризненность соблюдения ритуала в ходе дуэли вызвала в обоих взаимное уважение. Это, однако, не мешало вторичному обмену выстрелами и по возможности повторной дуэли.
«Через день… примирение состоялось быстро.
„Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение“, – сказал Пушкин.
„И хорошо сделали, Александр Сергеевич, – отвечал С<таро>в, – этим Вы еще более увеличили мое уважение к Вам, и я должен сказать по правде, что Вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете“. Эти слова искреннего привета тронули Пушкина, и он кинулся обнимать С<таро>ва». Тщательность соблюдения ритуала чести уравняла положение штатского юноши и боевого подполковника, дав им равное право на общественное уважение. Ритуальный цикл был завершен эпизодом демонстративной готовности Пушкина драться на дуэли, защищая честь Старова: «Дня через два после примирения речь шла об его дуэли с С<таровы>м. Превозносили Пушкина и порицали С<таро>ва. Пушкин вспыхнул, бросил кий и прямо и быстро подошел к молодежи. „Господа, – сказал он, – как мы кончили с С<таровы>м – это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать С<таро>ва, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне как следует“».
Эпизод этот именно своей ритуальной «классичностью» привлек внимание современников и широко обсуждался в обществе. Пушкин придал ему художественную завершенность, закончив обмен выстрелами рифмованной эпиграммой:
Я жив.
Старов
Здоров.
Дуэль не кончен.
Характерно, что именно этот эпизод получил в фольклорной памяти современников законченную формулу:
Полковник Старов,
Слава богу, здоров.
Образ поэта, сочиняющего во время дуэли стихи, – вариант дуэльной легенды, поэтизирующей как вершину блестящего поведения у барьера беспечную погруженность в посторонние занятия. В «Выстреле» граф Б*** у барьера ест черешню, в пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» герой во время дуэли сочиняет стихотворение. Это же продемонстрировал и Пушкин во время дуэли со Старовым.
Бретерское поведение как средство социальной самозащиты и утверждения своего равенства в обществе привлекло, возможно, внимание Пушкина в эти годы к Вуатюру – французскому поэту XVII века, утверждавшему свое равенство в аристократических кругах подчеркнутым бретерством. По поводу страсти этого поэта к поединкам Таллеман де Рео писал: «Не всякий храбрец может насчитать столько поединков, сколько было у нашего героя, ибо он дрался на дуэли по крайней мере четыре раза; днем и ночью, при ярком солнце, при луне и при свете факелов».
Отношение Пушкина к дуэли противоречиво: как наследник просветителей XVIII века, он видит в ней проявление «светской вражды», которая «дико боится ложного стыда». В «Евгении Онегине» культ дуэли поддерживает Зарецкий – человек сомнительной честности. Однако в то же время дуэль – и средство защиты достоинства оскорбленного человека. Она ставит в один ряд таинственного бедняка Сильвио и любимца судьбы графа Б***. Дуэль – предрассудок, но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, – не предрассудок.
Именно благодаря своей двойственности дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Только пунктуальное следование установленному порядку отличало поединок от убийства. Но необходимость точного соблюдения правил вступала в противоречие с отсутствием в России строго кодифицированной дуэльной системы. Никаких дуэльных кодексов в русской печати, в условиях официального запрета, появиться не могло, не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка. Конечно, можно было бы пользоваться французскими кодексами, но излагаемые там правила не совсем совпадали с русской дуэльной традицией. Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиции и арбитров в вопросах чести. Такую роль в «Евгении Онегине» выполняет Зарецкий.
Дуэль начиналась с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовала удовлетворения (сатисфакции). С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какие общения: это брали на себя их представители-секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел и характер будущей дуэли – от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов (картель).
Роль секундантов сводилась к следующему: как посредники между противниками, они прежде всего обязаны были приложить максимальные усилия к примирению. На обязанности секундантов лежало изыскивать все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя, для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять последнюю попытку к примирению. Кроме того, секунданты вырабатывают условия дуэли. В этом случае негласные правила предписывают им стараться, чтобы раздраженные противники не избирали более кровавых форм поединка, чем это требует минимум строгих правил чести. Если примирение оказывалось невозможным, как это было, например, в дуэли Пушкина с Дантесом, секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за строгим исполнением всей процедуры.
Так, например, условия, подписанные секундантами Пушкина и Дантеса
, были следующими (подлинник по-французски):
«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять.
3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».
Условия дуэли Пушкина и Дантеса были максимально жестокими (дуэль была рассчитана на смертельный исход), но и условия поединка Онегина и Ленского, к нашему удивлению, были также очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды здесь явно не было. Поскольку Зарецкий развел друзей на 32 шага, а барьеры, видимо, находились на «благородном расстоянии», т. е. на дистанции в 10 шагов, каждый мог сделать 11 шагов. Однако не исключено, что Зарецкий определил дистанцию между барьерами менее чем в 10 шагов. Требования, чтобы после первого выстрела противники не двигались, видимо, не было, что подталкивало их к наиболее опасной тактике: не стреляя на ходу, быстро выйти к барьеру и на предельно близкой дистанции целиться в неподвижного противника. Именно таковы были случаи, когда жертвами становились оба дуэлянта. Так было в дуэли Новосильцева и Чернова. Требование, чтобы противники остановились на месте, на котором их застал первый выстрел, было минимально возможным смягчением условий. Характерно, что когда Грибоедов стрелялся с Якубовичем, то, хотя такого требования в условиях не было, он все же остановился на том месте, на котором застал его выстрел, и стрелял, не подходя к барьеру.
В «Евгении Онегине» Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, и тем более заметно, что, «в дуэлях классик и педант», он вел дело с большими упущениями, вернее, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка покончить дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не было, и всем, кроме восемнадцатилетнего Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. Вместо этого он «встал без объяснений <...> Имея дома много дел». Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением (секунданты, как и противники, должны быть социально равными; Гильо – француз и свободно нанятый лакей – формально не мог быть отведен, хотя появление его в этой роли, как и мотивировка, что он по крайней мере «малый честный», являлись недвусмысленной обидой для Зарецкого), а одновременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться накануне без противников и составить правила поединка.
Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина неявившимся. «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый имеет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника». Онегин опоздал более чем на час.
Таким образом, Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном – что применительно к дуэли означало кровавом – исходе.
Вот пример из области «дуэльной классики»: в 1766 году Казанова дрался на дуэли в Варшаве с любимцем польского короля Браницким, который явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же, иностранец и путешественник, мог привести в качестве свидетеля лишь кого-либо из своих слуг. Однако он отказался от такого решения как заведомо невозможного – оскорбительного для противника и его секундантов и мало лестного для него самого: сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противник назначил ему секунданта из числа своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданте врага, но не согласился призвать наемного слугу быть свидетелем в деле чести.
Любопытно отметить, что аналогичная ситуация отчасти повторилась в трагической дуэли Пушкина и Дантеса. Испытав затруднения в поисках секунданта, Пушкин писал утром 27 января 1837 года д"Аршиаку, что привезет своего секунданта «лишь на место встречи», а далее, впадая в противоречие с самим собой, но вполне в духе Онегина, он предоставляет Геккерну выбрать ему секунданта: «… я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей» (XVI, 225 и 410). Однако д"Аршиак, в отличие от Зарецкого, решительно пресек такую возможность, заявив, что «свидание между секундантами, необходимое перед поединком»(выделено д"Аршиаком. – Ю. Л.), является условием, отказ от которого равносилен отказу от дуэли. Свидание д"Аршиака и Данзаса состоялось, и дуэль стала формально возможна. Свидание Зарецкого и Гильо произошло лишь на поле боя, но Зарецкий не остановил поединка, хотя мог это сделать.
Онегин и Зарецкий – оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серьезность которой все еще не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную, хотя порой и кровавую, историю, предмет сплетен и розыгрышей…
Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей поневоле. И для Пушкина, и для читателей романа, знакомых с дуэлью не понаслышке, было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет сходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень.
Так, например, во время дуэли Завадовского и Шереметева, знаменитой по ее роли в биографии Грибоедова (1817), мы видим классический случай поведения бретера: «Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. „Ah! – сказал он. – II en voulait a ma vie! A la barriere!“ (Ого! он покушается на мою жизнь! К барьеру!)
Делать было нечего. Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, – он ранил Шереметева в живот!»
Для того чтобы понять, какое удовольствие мог находить во всем этом деле человек типа Зарецкого, следует добавить, что присутствовавший на дуэли как зритель приятель Пушкина Каверин (член Союза благоденствия, с которым Онегин в первой главе «Евгения Онегина» встречался у Talon; известный кутила и буян), увидав, как раненый Шереметев «несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу», подошел к раненому и сказал: «Что, Вася? Репка?» Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: «что же? вкусно ли? хороша ли закуска?» Следует отметить, что, вопреки правилам дуэли, на поединок нередко собиралась публика как на зрелище. Есть основания полагать, что толпа любопытных присутствовала и на трагической дуэли Лермонтова, превратив ее в экстравагантное зрелище. Требование отсутствия посторонних свидетелей имело серьезные основания, поскольку последние могли подталкивать участников зрелища, приобретавшего театральный характер, на более кровавые действия, чем этого требовали правила чести.
Если же опытный стрелок производил выстрел первым, то это, как правило, свидетельствовало о волнении, приводившем к случайному нажатию спускового крючка. Вот описание дуэли в известном романе Бульвера-Литтона, проведенной по всем правилам дендизма: стреляются английский денди Пелэм и французский щеголь, оба опытные дуэлянты:
«Француз и его секундант уже дожидались нас. <...> (это – сознательное оскорбление; норма утонченной вежливости состоит в том, чтобы прибыть на место дуэли точно одновременно. Онегин превзошел все допустимое, опоздав более чем на час. – Ю. Л.). Я заметил, что противник бледен и неспокоен – мне думалось, не от страха, а от ярости <...> Я посмотрел на д"Азимара в упор и прицелился. Его пистолет выстрелил на секунду раньше, чем он ожидал, – вероятно, у него дрогнула рука – пуля задела мою шляпу. Я целился вернее и ранил его в плечо – именно туда, куда хотел».
Возникает, однако, вопрос: почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начиналась сначала, и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны, а бретерские легенды, формировавшие общественное мнение, поэтизировали убийцу, а не убитого.
Надо учитывать также еще одно существенное обстоятельство. Дуэль с ее строгим ритуалом, представляющая целостное театрализованное действо – жертвоприношение ради чести, обладает жестким сценарием. Как всякий строгий ритуал, она лишает участников индивидуальной воли. Остановить или изменить что-либо в дуэли отдельный участник не властен. В описании у Бульвер-Литтона имеется эпизод: «Когда мы стали по местам, Винсент (секундант. – Ю. Л.) подошел ко мне и тихо сказал:
– Бога ради, позвольте мне уладить дело миром, если только возможно!
– Это не в нашей власти, – ответил я». Сравним в «Войне и мире»:
«– Ну, начинайте! – сказал Долохов.
– Что ж, – сказал Пьер, все так же улыбаясь.
Становилось страшно. Очевидным было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться». Показательно, что Пьер, всю ночь думавший: «К чему же эта дуэль, это убийство?» - попав на боевое поле, выстрелил первым и ранил Долохова в левый бок (рана легко могла оказаться смертельной).
Исключительно интересны в этом отношении записки Н. Муравьева-Карского – свидетеля осведомленного и точного, который приводит слова Грибоедова о его чувствах во время дуэли с Якубовичем. Грибоедов не испытывал никакой личной неприязни к своему противнику, дуэль с которым была лишь завершением? «четверной дуэли», начатой Шереметевым и Завадовским. Он предлагал мирный исход, от которого Якубович отказался, также подчеркнув, что не испытывает никакой личной вражды к Грибоедову и лишь исполняет слово, данное покойному Шереметеву. И тем более знаменательно, что, встав с мирными намерениями к барьеру, Грибоедов по ходу дуэли почувствовал желание убить Якубовича – пуля прошла так близко от головы, что «Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку… <...> Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал».
Яркий пример изменения задуманного дуэлянтом плана поведения под влиянием власти дуэльной логики над волей человека находим в повести А. Бестужева «Роман в семи письмах» (1823). В ночь перед дуэлью герой твердо решает пожертвовать собой и предвкушает гибель: «Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела… я его обидел». Однако следующая глава этого романа в письмах рассказывает о совершенно неожиданном повороте событий: герой совершил поступок, диаметрально противоположный его намерениям. «Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека! <...> Мы близились с двадцати шагов, я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения: скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мой разум. На шести шагах, не знаю отчего, не знаю как, давнул я роковой шнеллер – и выстрел раздался в моем сердце!.. Я видел, как Эраст вздрогнул… Когда пронесло дым – он уже лежал на снегу, и хлынувшая из раны кровь, шипя, в нем застывала».
Для читателя, не утратившего еще живой связи с дуэльной традицией и способного понять смысловые оттенки нарисованной Пушкиным в «Евгении Онегине» картины, было очевидным что Онегин «любил его [Ленского] и, целясь в него, не хотел ранить».
Эта способность дуэли, втягивая людей, лишать их собственной воли и превращать в игрушки и автоматы, очень важна.
Особенно важно это для понимания образа Онегина. Герой романа, который отстраняет все формы внешней нивелировки своей личности и этим противостоит Татьяне, органически связанной с народными обычаями, повериями, привычками, в шестой главе «Евгения Онегина» изменяет себе: против собственного желания он признает диктат норм поведения, навязываемых ему Зарецким и «общественным мнением», и тут же, теряя волю, становится куклой в руках безликого ритуала дуэли. У Пушкина есть целая галерея «оживающих» статуй, но есть и цепь живых людей, превращающихся в автоматы. Онегин в шестой главе выступает как родоначальник этих персонажей.
Основным механизмом, при помощи которого общество, презираемое Онегиным, все же властно управляет его поступками, является боязнь быть смешным или сделаться предметом сплетен. Следует учитывать, что неписаные правила русской дуэли конца XVIII – начала XIX века были значительно более суровыми, чем, например, во Франции, а с характером узаконенной актом 13 мая 1894 года поздней русской дуэли (см. «Поединок» А. И. Куприна) вообще не могли идти ни в какое сравнение. В то время как обычное расстояние между барьерами в начале XIX века было 10–12 шагов, а нередки были случаи, когда противников разделяло лишь 6 шагов, за период между 20 мая 1894 г. и 20 мая 1910 г. из 322 имевших место поединков ни одного не проводилось с дистанцией менее 12 шагов и лишь один – с дистанцией в 12 шагов. Основная же масса поединков происходила на расстоянии 20–30 шагов, то есть с дистанции, с которой в начале XIX века никто не думал стреляться. Естественно, что из 322 поединков лишь 15 имели смертельные исходы. Между тем в начале XIX века нерезультативные дуэли вызывали ироническое отношение. При отсутствии твердо зафиксированных правил резко возрастало значение атмосферы, создаваемой вокруг поединков бретерами – хранителями дуэльных традиций. Эти последние культивировали дуэль кровавую и жестокую. Человек, выходивший к барьеру, должен был проявить незаурядную духовную самостоятельность, чтобы сохранить собственный тип поведения, а не принять утвержденные и навязанные ему нормы. Так, например, поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнью показаться смешным или трусливым, нарушив условные нормы поведения у барьера.
Любая, а не только «неправильная» дуэль была в России уголовным преступлением. Каждая дуэль становилась в дальнейшем предметом судебного разбирательства. И противники, и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя букве закона, приговаривал дуэлянтов к смертной казни, которая, однако, в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием в солдаты с правом выслуги (перевод на Кавказ давал возможность быстрого получения снова офицерского звания). Онегин, как неслужащий дворянин, вероятнее всего, отделался бы месяцем или двумя крепости и последующим церковным покаянием. Однако, судя по тексту романа, дуэль Онегина и Ленского вообще не сделалась предметом судебного разбирательства. Это могло произойти, если приходской священник зафиксировал смерть Ленского как последовавшую от несчастного случая или как результат самоубийства. Строфы XL–XLI шестой главы, несмотря на связь их с общими элегическими штампами могилы «юного поэта», позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, т. е. как самоубийца.
Настоящую энциклопедию дуэли мы находим в повести А. Бестужева «Испытание» (1830). Автор осуждает дуэль с просветительских традиций и одновременно с почти документальной подробностью описывает весь ритуал подготовки к ней:
«Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули – дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.
– Bonjour, capitaine, – сказал артиллерист входящему, – все ли у вас готово?
– Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа: мы вместе осмотрим их.
– Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?
– Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностию.
– О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули – я и теперь краснею от воспоминания – не дошли до полствола, и, как мы ни бились догнать их до места, – все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами – величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни, – производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?
– Классическая истина! – отвечал кавалерист, улыбаясь.
– У вас полированный порох?
– И самый мелкозернистый.
– Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.
– Как мы сделаемся со шнеллерами?
– Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела, и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л-ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров - почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его – и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же – долго ли потерять выстрел! шельмы эти оружейники: они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба!
– Однако ж, не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной; а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?
– Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, господин ротмистр?
– Я вчера посетил двоих – и был взбешен их корыстолюбием… Они начинали предисловием об ответственности – и кончали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.
– В таком случае я берусь привести с собою доктора – величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. „Я очень знаю, господа, – говорил он, навивая бинты на инструмент, – что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, – и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!“ Но, что удивительнее всего, – он отказался за поездку и леченье от богатого подарка.
– Это делает честь человечеству и медицине. Валериан Михайлович спит еще?
– Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастии пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натощак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двуместной – ни помочь раненому, ни положить убитого.
– Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.
– Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему – на шести шагах?
– На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, - вспышка и осечка не в число.
- Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались - так не жаль и пороху; а то за женскую прихоть и за свои причуды.
- Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.
- Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести».
Условная этика дуэли существовала параллельно с общечеловеческими нормами нравственности, не смешиваясь и не отменяя их. Это приводило к тому, что победитель на поединке, с одной стороны, был окружен ореолом общественного интереса, типично выраженного словами, которые вспоминает Каренин: «Молодецки поступил; вызвал на дуэль и убил» («Анна Каренина»). С другой стороны, все дуэльные обычаи не могли заставить его забыть, что он убийца.
Например, вокруг Мартынова, убийцы Лермонтова, в Киеве, где он доживал свой век, распространялась романтическая легенда (Мартынов, имевший характер Грушницкого, сам, видимо, ей способствовал), дошедшая до М. Булгакова, который рассказал о ней в «Театральном романе»: «Какие траурные глаза у него… <...> Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске… и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою».
В. А. Оленина вспоминала о декабристе Е. Оболенском. «Этот нещастной имел дуэль - и убил - с тех пор, как Орест, преследуемый фуриями, так и он нигде уже не находил себе покоя». Оленина знала Оболенского до 14 декабря, но и воспитанница М. И. Муравьева-Апостола, выросшая в Сибири, А. П. Созонович, вспоминает: «Прискорбное это событие терзало его всю жизнь». Ни воспитание, ни суд, ни каторга не смягчили этого переживания. То же можно сказать и о ряде других случаев.
Беседы о русской культуре:
Быт и традиции русского дворянства (XVIII-нач. XIX века)
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII -нач. XIX века) - СПб., 2000.
Вопросы и задания к тексту:
Какую роль играл бал в жизни русского дворянина, по мнению Лотмана?
Отличался ли бал от других форм развлечения?
Как дворян готовили к балам?
В каких литературных произведениях вы встречали описание бала, отношение к нему или отдельным танцам?
Каково значение слова дендизм?
Восстановите модель внешнего облика и поведения русского денди.
Какую роль играла дуэль в жизни русского дворянина?
Как относились к дуэлям в царской России?
Как осуществлялся ритуал дуэли?
Приведите примеры дуэлей в истории и литературных произведениях?
Лотман ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII-нач. XIX века)
Танцы были важным структурным элементом дворянского быта. Их роль существенно отличалась как от функции танцев в народном быту того времени, так и от современной.
В жизни русского столичного дворянина XVIII - начала XIX века время разделялось на две половины: пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам - здесь дворянин выступал как частное лицо; другую половину занимала служба - военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в венчающем день «собрании» - на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина... он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих.
Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, противоположной службе, - областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили внеслужебные ценностные критерии, и юный поручик, ловко танцующий и умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины II на вопрос Фонвизина: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» - «... в обществе жить не есть не делать ничего» 16 .
Со времени петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала, бывшие в основном общими и для народной, и для боярско-дворянской среды, должны были уступить место специфически дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению «кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов . Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу (от входа в залу до разъезда) соответствовали типовые эмоции, фиксированные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение «порядка» и «свободы».
Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговора, способности к быстрому эпиграмматическому ответу.
Обучение танцам начиналось рано - с пяти-шести лет. Так, например, Пушкин начал учиться танцам уже в 1808 году...
Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфебелем. Составитель «Правил», изданных в 1825 году, Л. Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не саму методу, а лишь ее слишком жесткое применение: «Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги вбок, подобно ему, в параллельной линии... Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные; то учитель, не мог сам ничего сделать, почел за долг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колена. Сколько сей ни кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели - пока наконец не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его...»
Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человека: в условном мире светского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания...
Аристократической простоте движений людей «хорошего общества» и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязность (результат борьбы с собственной застенчивостью) жестов разночинца...
Бал в начале XIX века начинался польским (полонезом), который в торжественной функции первого танца сменил менуэт. Менуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией...
В «Войне и мире» Толстой, описывая первый бал Наташи, противопоставит полонез, который открывает «государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома»... второму танцу - вальсу, который становится моментом торжества Наташи.
Пушкин характеризовал его так:
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
Эпитеты «однообразный и безумный» имеют не только эмоциональный смысл. «Однообразный» - поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца - игры котильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что «в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас» 17 . Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл: ... вальс... пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца... Жанлис в «Критическом и систематическом словаре придворного этикета»: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом! Вот что такое этот вальс!.. Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы».
Не только скучная моралистка Жанлис, но и пламенный Вертер Гете считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя...
Однако слова Жанлис интересны еще и в другом отношении: вальс противопоставляется классическим танцам как романтический; страстный, безумный, опасный и близкий к природе, он противостоит этикетным танцам старого времени. «Простонародность» вальса ощущалась остро... Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный.
Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец... задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений... Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров... Интересный пример смены темы разговора в последовательности танцев находим в «Анне Карениной». «Вронский с Кити прошел несколько туров вальса»... Она ожидает с его стороны слов признания, которые должны решить ее судьбу, но для важного разговора необходим соответствующий ему момент в динамике бала. Его возможно вести отнюдь не в любую минуту и не при любом танце. «Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор... Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться».
Мазурка составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим кульминацию танца... В пределах мазурки существовало несколько резко выраженных стилей. Отличие между столицей и провинцией выражалось в противопоставлении «изысканного» и «бравурного» исполнения мазурки...
Русский дендизм.
Слово «денди» (и производное от него - «дендизм») с трудом переводится на русский язык. Вернее, слово это не только передается несколькими по смыслу противоположными русскими словами, но и определяет, по крайней мере в русской традиции, весьма различные общественные явления.
Зародившись в Англии, дендизм включал в себя национальное противопоставление французским модам, вызывавшим в конце XVIII века бурное возмущение английских патриотов. Н.Карамзин в «Письмах русского путешественника» описывал, как во время его (и его русских приятелей) прогулок по Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека, одетого по французской моде. В противоположность французской «утонченности» одежды английская мода канонизировала фрак, до этого бывший лишь одеждой для верховой езды. «Грубый» и спортивный, он воспринимался как национальный английский. Французская предреволюционная мода культивировала изящество и изысканность, английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность 18 . Таким образом, дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой - примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века.
С этой точки зрения дендизм приобретал окраску романтического бунтарства. Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество, и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться, «неприличная» развязность жестов, демонстративный шокинг - все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону.
На противоположном полюсе находилась та интерпретация дендизма, которую развивал самый прославленный денди эпохи - Джордж Бреммель. Здесь индивидуалистическое презрение к общественным нормам выливалось в иные формы. Байрон противопоставлял изнеженному свету энергию и героическую грубость романтика, Бреммель - грубому мещанству «светской толпы» изнеженную утонченность индивидуалиста 19 . Этот второй тип поведения Бульвер-Литтон позже приписал герою романа «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828) - произведения, вызвавшего восхищение Пушкина и повлиявшего на его некоторые литературныезамыслы и даже, в какие-то мгновения, на его бытовое поведение...
Искусство дендизма создает сложную систему собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной «поэзии утонченного костюма»... Герой Бульвера-Литтона с гордостью говорит про себя, что он в Англии «ввел накрахмаленные галстуки». Он же «силою своего примера»... «приказывал обтирать отвороты своих ботфорт 20 шампанским».
Пушкинский Евгений Онегин «три часа по крайней мере // Пред зеркалами проводил».
Однако покрой фрака и подобные этому атрибуты моды составляют лишь внешнее выражение дендизма. Они слишком легко имитируются профанами, которым недоступна его внутренняя аристократическая сущность... Человек должен делать портного, а не портной - человека.
Роман Бульвера-Литтона, являющийся как бы беллетризованной программой дендизма, получил распространение в России, он не был причиной возникновения русского дендизма, скорее, напротив: русский дендизм вызвал интерес к роману...
Известно, что Пушкин подобно своему герою Чарскому из «Египетских ночей» не выносил столь милой для романтиков типа Кукольника роли «поэт в светском обществе». Автобиографически звучат слова: «Публика смотрит на него (поэта), как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее «пользы и удовольствия»...
Дендизм поведения Пушкина - не в мнимой приверженности к гастрономии, а в откровенной насмешке, почти наглости... Именно наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу поведения денди. Герой неоконченного пушкинского «Романа в письмах» точно описывает механизм дендистской наглости: «Мужчины отменно недовольны моею fatuite indolente, которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство - хотя и чувствуют, что я нахал».
Типично дендистское поведение было известно в кругу русских щеголей задолго до того, как имена Байрона и Бреммеля, равно как и само слово «денди», стали известны в России... Карамзин в 1803 году описал этот любопытный феномен слияния бунта и цинизма, превращения эгоизма в своеобразную религию и насмешливое отношение ко всем принципам «пошлой» морали. Герой «Моей исповеди» с гордостью рассказывает о своих похождениях: «Я наделал много шуму в своем путешествии - тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких Княжеских Дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом; а более всего тем, что с добрыми Католиками целуя туфель Папы, укусил ему ногу, и заставил бедного старика закричать изо всей силы»... В предыстории русского дендизма можно отметить немало заметных персонажей. Одни из них - так называемые хрипуны... «Хрипуны» как явление, уже прошедшее, упоминаются Пушкиным в вариантах «Домика в Коломне»:
Гвардейцы затяжные,
Вы, хрипуны
(но хрип ваш приумолк) 21 .
Грибоедов в «Горе от ума» называет Скалозуба: «Хрипун, удавленник, фагот». Смысл этих военных жаргонизмов эпохи до 1812 года современному читателю остается непонятным... Все три названия Скалозуба («Хрипун, удавленник, фагот») говорят о перетянутой талии (ср. слова самого Скалозуба: «И талии так узки»). Это же объясняет и пушкинское выражение «Гвардейцы затяжные» - то есть перетянутые в поясе. Затягивание пояса до соперничества с женской талией - отсюда сравнение перетянутого офицера с фаготом - придавало военному моднику вид «удавленника» и оправдывало называние его «хрипуном». Представление об узкой талии как о важном признаке мужской красоты держалось еще несколько десятилетий. Николай I туго перетягивался, даже когда в 1840-х годах у него отрос живот. Он предпочитал переносить сильные физические страдания, лишь бы сохранить иллюзию талии. Мода эта захватила не только военных. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии...
В поведении денди большую роль играли очки - деталь, унаследованная от щеголей предшествующей эпохи. Еще в XVIII веке очки приобрели характер модной детали туалета. Взгляд через очки приравнивался к разглядыванию чужого лица в упор, то есть дерзкому жесту. Приличия XVIII века в России запрещали младшим по возрасту или чину смотреть через очки на старших: это воспринималось как наглость. Дельвиг вспоминал, что в Лицее запрещали носить очки и что поэтому ему все женщины казались красавицами, иронически добавляя, что, окончив Лицей и приобретя очки, он был сильно разочарован... Дендизм ввел в эту моду свой оттенок: появился лорнет, воспринимавшийся как признак англомании...
Специфической чертой дендистского поведения было также рассматривание в театре через зрительную трубу не сцены, а лож, занятых дамами. Онегин подчеркивает дендизм этого жеста тем, что глядит «скосясь», а глядеть так на незнакомых дам - двойная дерзость. Женским адекватом «дерзкой оптики» был лорнет, если его обращали не на сцену...
Другой характерный признак бытового дендизма - поза разочарованности и пресыщенности... Однако «преждевременная старость души» (слова Пушкина о герое «Кавказского пленника») и разочарованность могли в первую половину 1820-х годов восприниматься не только в ироническом ключе. Когда эти свойства проявлялись в характере и поведении таких людей, как П.Я. Чаадаев, они приобретали трагический смысл...
Однако «скука» - хандра, была слишком распространенным явлением, чтобы исследователь мог отмахнуться от нее. Для нас она особенно интересна в данном случае тем, что характеризует именно бытовое поведение. Так, подобно Чаадаеву, хандра выгоняет за границу Чацкого...
Сплин как причина распространения самоубийств среди англичан упоминался еще Н.М. Карамзиным в «Письмах русского путешественника». Тем более заметно, что в русском дворянском быту интересующей нас эпохи самоубийство от разочарованности было достаточно редким явлением, и в стереотип дендистского поведения оно не входило. Его место занимали дуэль, безрассудное поведение на войне, отчаянная игра в карты...
Между поведением денди и разными оттенками политического либерализма 1820-х годов были пересечения... Однако природа их была различна. Дендизм - прежде всего именно поведение, а не теория или идеология 22 . Кроме того, дендизм ограничен узкой сферой быта... Не отделимый от индивидуализма и одновременно находящийся в неизменной зависимости от наблюдателей дендизм постоянно колеблется между претензией на бунт и разнообразными компромиссами с обществом. Его ограниченность заключена в ограниченности и непоследовательности моды, на языке которой он вынужден разговаривать со своей эпохой.
Двойственная природа русского дендизма создавала возможность двоякой его интерпретации... Именно эта двуликость сделалась характерной чертой странного симбиоза дендизма и петербургской бюрократии. Английские привычки бытового поведения, манеры стареющего денди, равно как и порядочность в границах николаевского режима, - таков будет путь Блудова и Дашкова. «Русского денди» Воронцова ждала судьба главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом, наместника Кавказа, генерал-фельдмаршала и светлейшего князя. У Чаадаева же - совсем другая судьба: официальное объявление сумасшедшим. Бунтарский байронизм Лермонтова не будет уже умещаться в границах дендизма, хотя, отраженный в зеркале Печорина, он обнаружит эту, уходящую в прошлое, родовую связь.
Дуэль.
Дуэль (поединок) - происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести... Таким образом, роль дуэли – социально-знаковая. Дуэль... не может быть понята вне самой специфики понятия «честь» в общей системе этики русского европеизированного послепетровского дворянского общества...
Русский дворянин XVIII - начала XIX века жил и действовал под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. Как верноподданный, слуга государства, он подчинялся приказу... Но в то же время, как дворянин, человек сословия, которое одновременно было и социально господствующей корпорацией, и культурной элитой, он подчинялся законам чести. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения... С этих позиций переживает известную реставрацию средневековая рыцарская этика. ...Поведение рыцаря не измеряется поражением или победой, а имеет самодовлеющую ценность. Особенно ярко это проявляется в отношении к дуэли: опасность, сближение лицом к лицу со смертью становятся очищающими средствами, снимающими с человека оскорбление. Сам оскорбленный должен решить (правильное решение свидетельствует о степени его владения законами чести): является ли бесчестие настолько незначительным, что для его снятия достаточно демонстрации бесстрашия - показа готовности к бою... Человек, слишком легко идущий на примирение, может прослыть трусом, неоправданно кровожадный - бретером.
Дуэль, как институт корпоративной чести, встречала оппозицию с двух сторон. С одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно. В «Патенте о поединках и начинании ссор», составлявшем 49-ю главу петровского «Устава воинского» (1716), предписывалось: «Ежели случится, что двое на назначенное место выдут, и один против другаго шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, также и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать... Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешаны да будут» 23 ... дуэль в России не была пережитком, поскольку ничего аналогичного в быту русской «старой феодальной знати» не существовало.
На то, что поединок представляет собой нововведение, недвусмысленно указывала Екатерина II: «Предубеждения, не от предков полученные, но перенятые или наносные, чуждые» 24 ...
На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли указал еще Монтескье: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем... Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота?»...
С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства и противопоставлявших дворянскую честь человеческой, основанной на Разуме и Природе. С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры или критики... Известно отрицательное отношение к дуэли А. Суворова. Отрицательно относились к дуэли и масоны.
Таким образом, в дуэли, с одной стороны, могла выступать на первый план узко сословная идея защиты корпоративной чести, а с другой - общечеловеческая, несмотря на архаические формы, идея защиты человеческого достоинства...
В связи с этим отношение декабристов к поединку было двойственным. Допуская в теории негативные высказывания в духе общепросветительской критики дуэли, декабристы практически широко пользовались правом поединка. Так, Е.П.Оболенский убил на дуэли некоего Свиньина; многократно вызывал разных лиц и с несколькими дрался К.Ф. Рылеев; А.И. Якубович слыл бретером...
Взгляд на дуэль как на средство защиты своего человеческого достоинства не был чужд и Пушкину. В кишиневский период Пушкин оказался в обидном для его самолюбия положении штатского молодого человека в окружении людей в офицерских мундирах, уже доказавших на войне свое несомненное мужество. Так объясняется преувеличенная щепетильность его в этот период в вопросах чести и почти бретерское поведение. Кишиневский период отмечен в воспоминаниях современников многочисленными вызовами Пушкина 25 . Характерный пример - дуэль его с подполковником С.Н. Старовым... Дурное поведение Пушкина во время танцев в офицерском собрании стало причиной дуэли... Дуэль была проведена по всем правилам: между стреляющимися не было личной неприязни, а безукоризненность соблюдения ритуала в ходе дуэли вызвала в обоих взаимное уважение. Тщательность соблюдения ритуала чести уравняла положение штатского юноши и боевогоподполковника, дав им равное право на общественное уважение...
Бретерское поведение как средство социальной самозащиты и утверждения своего равенства в обществе привлекло, возможно, внимание Пушкина в эти годы к Вуатюру - французскому поэту XVII века, утверждавшему свое равенство в аристократических кругах подчеркнутым бретерством...
Отношение Пушкина к дуэли противоречиво: как наследник просветителей XVIII века, он видит в ней проявление «светской вражды», которая «дико... боится ложного стыда». В «Евгении Онегине» культ дуэли поддерживает Зарецкий - человек сомнительной честности. Однако в то же время дуэль - и средство защиты достоинства оскорбленного человека. Она ставит в один ряд таинственного бедняка Сильвио и любимца судьбы графа Б. 26 Дуэль - предрассудок, но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, - не предрассудок.
Именно благодаря своей двойственности дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала... Никаких дуэльных кодексов в русской печати в условиях официального запрета появиться не могло... Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиции и арбитров в вопросах чести...
Дуэль начиналась с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовала удовлетворения (сатисфакции). С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какое общение: это брали на себя их представители-секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел и характер будущей дуэли - от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов (картель)… На обязанности секундантов лежало изыскивать все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя, для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять последнюю попытку к примирению. Кроме того, секунданты вырабатывают условия дуэли. В этом случае негласные правила предписывают им стараться, чтобы раздраженные противники не избирали более кровавых форм поединка, чем это требует минимум строгих правил чести. Если примирение оказывалось не возможным, как это было, например, в дуэли Пушкина с Дантесом, секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за строгим исполнением всей процедуры.
Так, например, условия, подписанные секундантами Пушкина и Дантеса, были следующими (подлинник по-французски): «Условия дуэли Пушкина и Дантеса были максимально жестокими (дуэль была рассчитана на смертельный исход), но и условия поединка Онегина и Ленского, к нашему удивлению, были также очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды здесь явно не было...
1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять.
3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии 27 .
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».
- Полные уроки — Гипермаркет знаний
- Стихотворения для детей на тему "осень" Закружилась листва золотая
- Стихи о войне. Испытание временем. А музы не молчали… Когда бьют пушки музы не молчат
- Краткий анализ стихотворения "Нате!
- Причины, этапы, ход революции
- Йод в организме человека: роль и функции
- Арамейский язык, библейская энциклопедия брокгауза
- Компас и его виды Сколько румбов на компасе
- Жорж Кювье: вклад в биологию Какой вклад в науку внес жорж кювье
- Работы даниэля дефо. Биография даниеля дефо. Смотреть что такое "Дефо, Даниэль" в других словарях
- «Охота на банкира»: как бизнесмен Лебедев предлагает бороться с незаконным оттоком из России миллиардов долларов Об анекдоте, стоившем карьеры
- Минимальный размер оплаты труда (мрот)
- Должностная инструкция повара школьной столовой
- Расписка о получении трудовой книжки на руки избавит работодателя от проблем Расписка при увольнении о выдаче всех справок
- Должностная инструкция ученика электромонтера
- Диапазоны певческих голосов
- Игры эмили Игры для девочек семья эмили дом мечты
- Афродита — Греческая богиня любви и красоты
- Адам в поисках евы - блог алексея лебедева
- Уроки немецкого: Немецкий алфавит